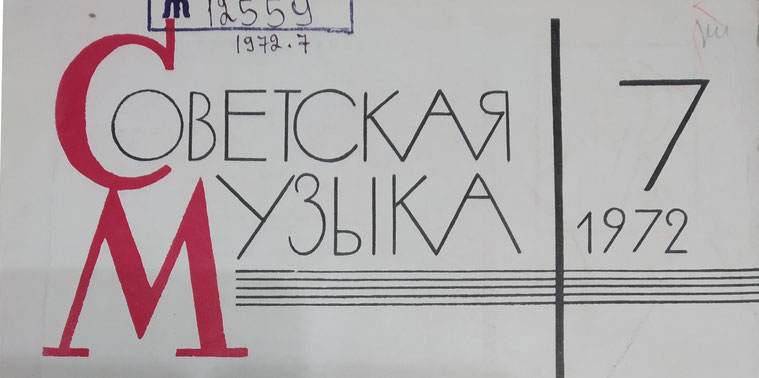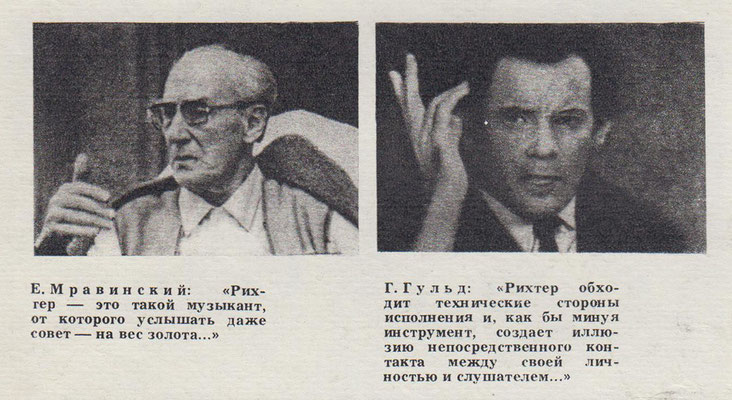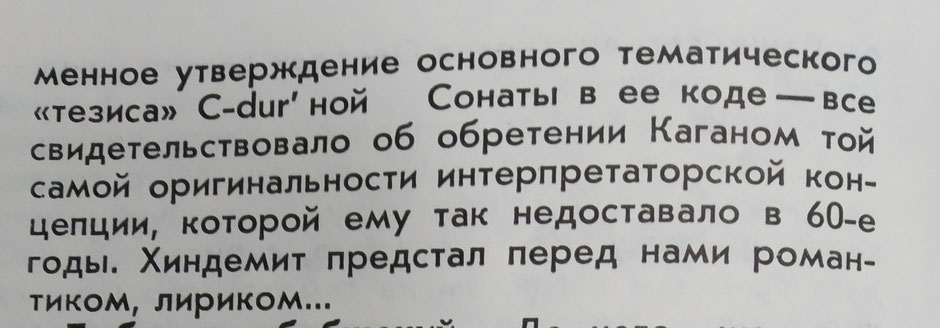Рецензии
70-е годы
В.Юзефович. ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО. «Музыкальная жизнь», 1970, № 16.
Р.Щедрин. «Новая встреча».«Советская музыка», 1971, №1.
Н.Танаев. «Лондонский симфонический» (фрагмент). Музыкальная жизнь, 1971, № 12.
Я.Мильштейн. «Вечер большой музыки». «Музыкальная жизнь», №2, 1972 г.
И.Мартынов. «Прометей в Большом зале».- «Советская музыка», 1972, №7, с.84-85.
В.Самойлов В мире филофонии. Великолепное мастерство. «Музыкальная жизнь», № 12, 1972 г.
В.Сирятский. «Советская музыка», 1976, № 3. Три прочтения «Картинок с выставки». (М.Юдина, С.Рихтер, В.Горовиц.)
Д.Ойстрах. «Великий художник нашего времени». «Музыкальная жизнь», 1976, №17.
Ан. ВАРТАНОВ. РАССКАЗ ОБ ОДНОМ КОНЦЕРТЕ. «Музыкальная жизнь», 1976, № 17.
Я.Мильштейн. ВЕЛИКИЙ АРТИСТ СОВРЕМЕННОСТИ. «Советская музыка», 1977, №2.
Б.Кац. "Письма из филармонии" (фрагмент). "Аврова", 1977, №6.
М.Нестьева. «Творец лунных лучей и пламени солнца». (Сонаты Шуберта в исполнении С.Рихтера, В.Кемпфа, А.Шнабеля и В.Софроницкого.) «Советская музыка», 1978, №3.
В.Тимохин. Высокая гармония. «Музыкальная жизнь», 1977, №23.
С.Яковенко. ДИТРИХ ФИШЕР-ДИСКАУ – СВЯТОСЛАВ РИХТЕР. «Советская музыка», 1978, №3.
Б.Владимирский. Наш друг пластинка. «Советская музыка», 1978, №4, фрагмент.
Л.Гаккель. РИХТЕР ИГРАЕТ ВОСЬМУЮ СОНАТУ. «Советская музыка», 1978, №4.
А. Г. Скавронский. "РИХТЕРОВСКИЕ ШУБЕРТИАДЫ". «Советская музыка», 1978 г., №9.
Альфред Хоффман. "Постоянно оттачивающий свое мастерство". "Румыния", №1.
И.Нестьев. «ХРОНИКИ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА». «Музыкальная жизнь», 1979, №1.
С.Бирюков. "Хроники Святослава Рихтера". "Телевидение и радиовещание", 1979, №2.
В.Юзефович. Quattour de quattour. - «Советская музыка», 1979, №9, с.47-62.
М.Богданова. ЧАС МАСТЕРСТВА. «Смена», 1979, №21.

В.Юзефович.
«Музыкальная жизнь», 1970, № 16.
ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО
Четыре имени свела воедино афиша одного из последних концертов прошедшего сезона в Большом зале Московской консерватории : Н. Мясковский,
С. Прокофьев, Е. Светланов, С. Рихтер. «Встреча» этих четырех фамилий не была случайной.
Имена Мясковского и Прокофьева нередко упоминались рядом. Выдающиеся советские музыканты вместе учились в Петербургской консерватории, вместе, и не без помощи друг друга, обретали признание. Первая обобщенная характеристика творчества молодого Прокофьева принадлежала перу Мясковского, позднее в прессе появилась статья Прокофьева, приветствовавшего фортепианную сонату Мясковского. До конца жизни они поверяли один другому свои творческие замыслы, делились сомнениями, радостями, трудностями, с придирчивой строгостью оценивали новые сочинения друг друга...
Двадцать седьмая симфония Мясковского и Пятый фортепианный концерт Прокофьева – произведения различных исполнительских судеб. Симфония была горячо встречена в вечер своей премьеры, состоявшейся уже после смерти Мясковского, в 1950 году. Вскоре она завоевала большую популярность среди любителей музыки. Фортепианный концерт, впервые сыгранный Прокофьевым в 1932 году в Берлине, успеха не имел, за ним закрепилась репутация неудачливого сочинения. Два эти произведения были очень разными по содержанию, по характеру. Симфония подводила итог всему творчеству Мясковского. Концерт Прокофьева, напротив, весь словно устремлен вперед... Прошли десятилетия. И вот сегодня, слушая эти сочинения, мы воспринимаем их как классику советской музыки.
Блестящий интерпретатор Мусоргского и Рахманинова, Скрябина и Метнера, Евгений Светланов видит в Мясковском непосредственного продолжателя лучших традиций русской классики. Дирижер активно пропагандирует музыкальное наследие композитора, мечтает об исполнении цикла, составленного из всех его симфоний. Двадцать седьмая – одно из высших исполнительских достижений Светланова. Редко кому удавалось так глубоко, с такой проникновенностью передавать высокий пафос лирики Мясковского.
...Первая часть симфонии – эпическое повествование. Во вступительном Adagio слышатся и раздумье (рассказчик словно не остановился еще на определенном сюжете, подыскивает его), и тревожный намек на грядущий драматизм... Первое Allegro Светланов проводит намеренно сдержанно, как бы приберегая заложенный в нем внутренний динамизм для репризы, где главная партия захватит все голоса оркестра. Небольшой эмоциональный «роздых» (рассказчик вновь задумался о сюжете...), который дает звучащая свирельным проигрышем связующая тема, сменяется побочной партией. Широкая, неторопливая в своем горделивом развороте, она достигает у оркестра и дирижера подлинных высот эмоционального откровения. Особенно запоминается ее проведение в репризе, где Светланов пользуется капризно-прихотливым rubato. Кода, с ее большим разгоном темпа, приносит окончательное утверждение образов первой части симфонии.
Размеры рецензии исключают подробный анализ исполнения всей симфонии. Упомяну лишь, что, подчеркивая драматизм среднего эпизода второй части, дирижер углубляет тем самым основной образ – полную возвышенного благородства, по-рахманиновски протяженную мелодию. Если в начале части определяющими в ее звучании являются спокойствие, безмятежность, то в репризе, наступающей после тревожной середины (ее ассоциируют часто с воспоминаниями о военном лихолетье), та же тема, обретает оттенок «пережитости». Разумеется, такая трактовка не вычитана в ремарках партитуры, она порождена мыслящим исполнителем-художником.
Святослав Рихтер с начала своей артистической деятельности зарекомендовал себя выдающимся интерпретатором музыки Прокофьева. Его первое публичное выступление, как известно, занимало второе отделение совместного с Г.Г.Нейгаузом концерта: учитель играл Мясковского, ученик – Прокофьева. Вторая соната Прокофьева значилась в программе первого сольного концерта Рихтера. Позже одна за другой последовали в его исполнении премьеры Седьмой и Девятой сонат, флейтовой сонаты (с Н. Харьковским) и – в качестве дирижера! – Симфонии-концерта для виолончели с оркестром (солист М. Ростропович). Но особенно знаменательной стала встреча пианиста с Пятым фортепианным концертом. Сыграв впервые этот концерт (в 1941 году под управлением автора), Рихтер восстановил его некогда подорванную репутацию, обратившись к нему вновь в 1958-м, привлек «на сторону» сочинения многих приверженцев, а в 1970 году пианист привел эту музыку к настоящему триумфу. Оба вечера (программа исполнялась дважды) пианист бисировал по две-три части концерта.
Мы знаем, что Прокофьев был не совсем удовлетворен Пятым концертом из-за недостаточной простоты изложения. Прокофьев-пианист указывал на невероятную сложность фортепианной партии; дирижировавший премьерой концерта В. Фуртвенглер отмечал трудности в его партитуре.
Слушая ныне игру Святослава Рихтера, выступающего вместе с Государственным оркестром Союза ССР под управлением Е.Светланова, меньше всего акцентируешь внимание на преодолении каких-либо сложностей. В памяти остается прежде всего удивительно точное стилистически постижение музыки. В рихтеровской интерпретации отчетливо проступают основные контрасты образного мира прокофьевской музыки: ее «классические» традиции и ее новаторство, контрасты токкатной и лирической ее сфер. Но если композитор, говоря об этих главных стихиях собственного творчества, разграничивал их примерами из различных сочинений, то Рихтер и Светланов вскрывают в Пятом концерте их теснейшее взаимодействие. Вы погружаетесь в атмосферу чистоты и ясности классического музицирования, когда с какой-то «хрустальной» осторожностью пианист играет побочную тему первой части концерта. Перед вами Прокофьев-новатор – во всесокрушающем вихре и нервной пульсации открывающего концерт Allegro. Пример исполнительского темперамента, эквивалентного жару сердца композитора, – сыгранная на едином дыхании Токката, третья часть концерта. Вы проникаетесь лирикой Прокофьева: материал для таких тонких ассоциаций, как картина плавающих в воде лепестков розы, дает вслушивание в начало четвертой части. Вообще картинность, образность – одна из наиболее сильных сторон дарования Рихтера, как и Светланова. Достаточно сказать о рельефном воплощении ярмарочно-балаганной, «петрушечной» стихии финала концерта (являющейся, по сути дела, еще одной ипостасью прокофьевского творчества, лишь очень условно названной композитором «скерцозностью»).
Мясковский и Прокофьев, Светланов и Рихтер доставили слушателям минуты высокого эстетического наслаждения. Государственный симфонический оркестр СССР радовал послушностью воле Светланова, гибким следованием исполнительским намерениям Рихтера, игрой своих солистов В.Зверева (флейта), А.Петрова (гобой), Л.Крылова (английский рожок), Ф.Лузанова (виолончель) и инструментальных групп, которые соревновались в стройности, ансамблевом совершенстве и красоте звучания.
Р.Щедрин. «Новая встреча».«Советская музыка», 1971, №1.



В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ
Я.Мильштейн. Вечер большой музыки
«Музыкальная жизнь», №2, 1972 г.
Четыре концерта Святослава Рихтера в Большом зале Московской консерватории и в Зале имени П И. Чайковского с программами из произведений Бетховена, Шуберта, Брамса, Шопена, Дебюсси — выдающееся событие в музыкальной жизни столицы.
Рихтер — великий артист. пианист несравненной художественной силы, обладающий поразительным даром перевоплощения. Какое предельное мастерство требуется для того, чтобы сохранить стиль автора, передать его мысли; чувства, волю и в то же время остаться самим собой, проявить в полной мере свою художественную индивидуальность. Когда Рихтер играет различных авторов, не знаешь, чему отдать предпочтение. Сама техника пианиста, блистательная и дерзновенная, рождена этим стилевым универсализмом. Она великолепна прежде всего потому, что всегда вытекает из характера и особенностей исполняемого произведения, связана с ними нерасторжимыми узами. И конечно, ничего общего она не имеет с выработанным на все случаи жизни механизмом, с виртуозном щегольством.
Сонаты Шуберта до минор и си-бемоль мажор уже давно входят в репертуар Рихтера. Начиная с конца 1940-х годов пианист неоднократно играл их в своих концертах, особенно вторую. И каждый раз мы находим в его интерпретации нечто новое, неожиданное. На первый план выдвигалась то архитектоника широко изложенных первых частей, то поэтическое величие медленных частей, то танцевальная стихия финалов, Менялись эмоциональные акценты, художественные ракурсы... Но одно оставалось неизменным: цельность замысла. Сонаты большой временной протяженности вставали перед слушателями как нечто легко обозримое, единое, видимое словно с «орлиного полета», как органический сплав, где любая деталь, подчиняясь законам целого, в то же время живет своей самостоятельной жизнью. Если бы потребовалось в немногих словах охарактеризовать основные качества исполнения Рихтером этих сонат, то мы бы сказали: мудрость, нравственная чистота, человечность. И, пожалуй, добавили еще: это исполнение, богатое романтическим чувством, но очень современное в своих выразительных средствах.
Сонаты Бетховена соч. 90, 109 и 110 игрались Рихтером в концертах еще чаще, чем сонаты Шуберта, особенно первая и последняя. Вспоминается, например, исполнение Рихтером Сонаты соч. 110 на одном из студенческих вечеров класса Г. Г. Нейгауза осенью 1937 года. Уже тогда чувствовалось в его интерпретации нечто такое, о чем словами не расскажешь: так играть мог . только музыкант, наделенный от природы редким даром. Что же сказать об исполнении Рихтером этого произведения теперь, когда оно приобрело с годами и большую глубину, и большее совершенство, и большую контрастность, когда оно стало и значительнее, и мудрее. Поразительная по сдержанной экспрессии трактовка первой части, ясность в выражении народного духа второй (обращает на себя внимание медленный темп, необычный в свете традиционных представлений, но именно так задуманный, если судить по нотной записи, самим Бетховеном). Но особенно значительными оказались сейчас третья и четвертая части сонаты: подчеркнуто скорбное Arioso dolente в весьма медленном темпе — не скорбь, а бездна скорби; непреклонно развертывающаяся первая фуга с новым проведением Arioso, еще более жалобным и печальным (незабываемо! тонкое интонационное мастерство Рихтера при воссоздании прерываемой паузами мелодии — словно учащенное болезненное дыхание); и, наконец, вторая фуга — верх совершенства в исполнительском искусстве Рихтера. Вы как будто присутствуете при возрождении жизни; под пальцами пианиста крепнут мысль и чувство, все более и более осложняется движение, пока тема в увеличении не достигает своего апогея в аккордовом проведении. Создается впечатление всепокоряющей власти нарастания, какой- то необыкновенной ликующей радости, завершающейся в предельно мощном по силе звучания пассаже.
Свое видение мира сказалось и на исполнении Рихтером сонат соч. 90 и 109. Здесь все было закономерно. Каждый поворот «событий» имел свое назначение; одно вытекало из другого с непреложной необходимостью; все было одухотворено, овеяно поэтичностью.
С полным правом мы можем говорить не только о Бетховене или Шуберте Рихтера, но и о Брамсе Рихтера, Шопене, Дебюсси, Рахманинове... В рихтеровском Брамсе (в концерте исполнялись пьесы из соч. 116) прежде всего пленяет сочетание логической стройности, конструктивной четкости с остротой и тонкостью передачи чувств. Слушая в интерпретации пианиста интермеццо или каприччио, всегда сознаешь, сколь близко ему само существо музыки Брамса. Каждое интермеццо дает нам нечто глубоко интимное, свежее, проникновенное, каждое каприччио покоряет непреклонным ритмом, смелостью, неисчерпаемым богатством фантазии (напомним, например, как чудесно и необычно звучали — по контрасту с бурными крайними частями — средние эпизоды каприччио соль минор и ре минор).
В ноктюрнах Шопена — полное отсутствие шаблона. Все ясно, стройно, определенно и в то же время глубоко, значительно по чувству. Нежность без сентиментов, экспрессия без преувеличения, интеллектуальность без нарочитости.
Особенно сильное впечатление оставили два ноктюрна: фа мажор соч. 15 и ми-бемоль мажор соч. 55. В первом очертания мелодии были такими мягкими и нежными на фоне легко и ровно звучащего сопровождения, что она казалась совсем прозрачной, словно повисшей в воздухе; во втором неотразимо действовали последовательно выдержанный медленный темп, глубокая содержательность «дуэта голосов» на фоне безупречно сыгранных выразительных триолей сопровождения. Особо заслуживает быть отмеченной педализация Рихтера в ноктюрнах. Она как бы избегает двух крайностей: неоправданной плотности и сухости. В ней органично сочетаются изобилие и прозрачность.
В пьесах Дебюсси, как включенных Рихтером в программы (первая серия «Образов»), так и сыгранных на «бис» («Колокола сквозь листву», «Памяти Гайдна»), восхищает неповторимое своеобразие колорита, мягкость переходов, воздушная легкость туше, гибкость рельефа. Всегда чуткий к звуковым градациям, к светотени, к полутонам, Рихтер доводит и здесь до предельного совершенства. Это касается исполнения таких пьес, как «Посвящение Рамо», «Движение», «Отражения в воде» и, особенно, «Колокола сквозь листву». В исполнении Рихтера — это звуковая картина, чарующая своими мягкими линиям и колористическими находками. Смутно, как сквозь дымку, проступают в начале пьесы очертания мелодии на фоне приглушенного колокольного звона. Звук имеет при этом мало с чем сравнимый серебристый — не холодноватый, теплый — оттенок. Короткая кульминация с расширяющимися и усиливающимися колокольными звонами приводит к точке максимального взлета. Столь же быстро все затихает, гаснет, меркнет. В конце слышны лишь совсем глухие, далекие отголоски колокольного звона И что удивительно:. всего этого Рихтер достиг на инструменте, плохо подготовленном для концерта, - рояль не только не был хорошо «интонирован», н ему не хватало элементарной выравненности звучания. Не пора ли наши концертным организациям всерьез задуматься над подобными явлениями?!

Дискография
В.Сирятский. «Советская музыка», 1976, № 3.
Три прочтения «Картинок с выставки»
(М.Юдина, С.Рихтер, В.Горовиц)
«Картинкам с выставки» – более ста лет. Это замечательное, сегодня едва ли не хрестоматийное, произведение зазвучало на эстраде не сразу. И хотя в конце XIX – начале XX века его художественные достоинства оценивались высоко, считалось что цикл Мусоргского – сочинение для концертного исполнения неблагодарное, неудобное. Сегодня причина такого отношения к «Картинкам с выставки» понятна: композитор во многом отошел от традиционного для своего времени использования фортепиано, и новшества его многим казались чем-то несоответствующим «природе инструмента».
Особенности использования фортепиано в произведениях Мусоргского до настоящего времени мало исследованы. Анализ их не является задачей и настоящей статьи. Но без специальной характеристики самых существенных особенностей не обойтись, ибо она – ключ к пониманию тенденций, наметившихся в интерпретации сюиты.
Суровая правда о жизни народа, о бедах и радостях простых людей – главная тема «Картинок с выставки». Чтобы раскрыть необычную для пианистического искусства того времени тему, пришлось отказаться от романтических представлений об идеале фортепианной звучности. Борясь с ними, композитор создал новый тип фактуры. В произведениях тех лет вертикаль по большей части образуется из поочередно вступающих звуков гармонической фигурации, которые благодаря педали наслаиваются друг на друга. Постепенному возникновению вертикали присуща специфическая прелесть: жизнь фортепианного звука начинается с удара; последний особенно заметен в момент рождения неарпеджированного многозвучного аккорда; но если этот аккорд берется при поднятых демпферах вразбивку, то разносящееся звучание нот, сыгранных первыми, как бы скрадывает, затушевывает удары, вызванные взятием остальных.
Место привычных гармонических фигураций заняли в сюите Мусоргского унисоны и стройные «столбики» аккордов. Лишь в нескольких десятках тактов вертикаль возводится с помощью педали, которая в одних случаях присоединяет бас к созвучиям, появившимся раньше или позднее него («Два еврея», тт. 8–16; «Избушка на курьих ножках», тт. 41–56), в других – напластовывает гармонически тождественные звукосочетания («Богатырские ворота», тт. 114–132). Композитор придает здесь звучанию суровый, эпический оттенок, обнажая «ударность» фортепиано.
Унисонно-аккордовая фактура принесла с собой краски, неизвестные тогдашней фортепианной музыке. И композитор воспользовался ими на редкость изобретательно; каждый номер сюиты имеет свой неповторимый колорит.
В тексте сюиты очень мало динамических ремарок. Мусоргский обычно лишь указывает, громко или тихо должен исполняться тот или иной большой эпизод. Подробности же нюансировки, задуманной автором, как бы вобрал в себя сам характер изложения. Фактурные перемены с неотвратимой неизбежностью влекут за собой усиления и спады звучности. Чередование оттенков внутри крупных разделов происходит по преимуществу без плавных переходов, потому что структура музыкальной ткани почти везде меняется внезапно, скачком. Какой исключительной творческой смелостью нужно было обладать, чтобы прибегнуть к скачкообразной нюансировке1 в век всеобщего поклонения «динамическим волнам»!
В «Картинках с выставки» мы встречаем непривычное полнозвучие. Его своеобычность коренится в том, что оно достигается чаще всего не с помощью педали, объединяющей последовательно вступающие звуки в гигантский аккорд (способ, открытый романтиками), а благодаря всякий раз особенному, специально найденному расположению сомкнутых звукосочетаний, при котором звучность становится гулкой, насыщенной («Прогулки» № 1, тт. 19–24; № 3, тт. 1–4; № 5, тт. 9–15; «Гном», тт. 60–71; «Быдло», тт. 21–46; «Избушка на курьих ножках», тт. 25–40; «Богатырские ворота», тт. 1–19, 47–63).
Мусоргский по-иному, нежели его современники, пользуется фортепианными регистрами. Он избегает смешения регистровых тембров. В «Картинках с выставки» даже при широкоохватной фактуре они не утрачивают своей индивидуальности («Богатырские ворота», тт. 89–110; «Быдло», тт. 21–46; «Гном», тт. 19– 22; 70–81 и т. д.). Чтобы сохранить чистоту тембров, композитор отделяет регистры друг от друга «окнами-промежутками», не заполненными звучанием. Прорезая эти «окна», он нередко обращается к тесному аккордовому расположению в басу, отвергавшемуся авторами тех лет, разрывает средние голоса гармонии, что многими тогда также считалось недопустимым. В тех же немногочисленных случаях, где нашли применение традиционные технические формулы, мастер лишает их внешнего виртуозного лоска (характерны в этом смысле октавы в «Богатырских воротах»).
Словом, в использовании фортепиано композитор настолько далеко отошел от канонов своего времени, что аутентический текст «Картинок с выставки» тогдашним пианистам показался убогим клавиром симфонического произведения2. Быть может, еще и поэтому более полувека среди музыкантов бытовало мнение, будто сюита Мусоргского сможет стать репертуарным сочинением только в оркестровом переложении. Первая попытка инструментовать ее была предпринята Римским-Корсаковым. Но завершить эту работу композитору не было суждено. В 1922 году появляется равелевская партитура «Картинок с выставки». Очень скоро она стала знаменитой, часто исполняется и сегодня. Однако, как нам кажется, суровая жизненная проза цикла Мусоргского несколько потонула в декоративном убранстве, солнечных оркестровых красках 3.
Триумф партитуры Равеля подстегнул пианистов. Они, наконец, замечают сюиту и начинают все чаще играть ее на эстраде. Ныне цикл Мусоргского звучит «в оригинале» в концертных залах всех континентов. Многие его записи на пластинки вошли в золотой фонд современного исполнительского искусства. И тем не менее попыток проанализировать художественные особенности этих интерпретаций до настоящего времени не предпринималось, хотя такой анализ, надо думать, представляет интерес и для исполнителей, и для слушателей, и для музыковедов.
Среди равноценных прочтений «Картинок с выставки» для сравнительной характеристики не случайно выбраны трактовки М.Юдиной, С.Рихтера и В.Горовица. На примере их игры можно проследить основные тенденции, наметившиеся в истолковании пианистами ХХ века музыки Мусоргского.
В интерпретации сюиты М.Юдиной4 обращает на себя внимание непривычное решение проблемы целого и деталей. У одних пианистов целое – результат сложения отшлифованных деталей, объективная его логика «определяет структурное место и значение каждой детали, Диктует строжайшее единство темпа, исключает какой бы то ни было субъективный произвол»5. У других целое – не результат, а исходная точка, не совокупность «кирпичиков», а неразложимое единство, не конструкция–монолит.
Последнее кажется характерным именно для юдинской версии «Картинок с выставки». И в то же время пианистка дает крупным планом вереницу деталей. Вспомним хотя бы предельно экспрессивное интонирование каждого речевого мотива в пьесах «Гном», «Тюильрийский сад», «Два еврея», исключительно четкое и точное произнесение шестнадцатых в пьесе «Лимож» и тридцатьвторых в пьесе «С мертвыми на мертвом языке», подчеркнуто выпуклое исполнение цезуры, разделяющей «симфонию» колоколов и динамическую репризу в пьесе «Богатырские ворота».
Из сказанного видно, что Юдиной удается сфокусировать внимание слушателей на деталях благодаря возведению их выразительности в степень наивысшей интенсивности. Особенно часто пианистка приближает к критической точке выразительность темповых отклонений. Крайними темповыми колебаниями – еще чуть-чуть и, кажется, целое рухнет! – насыщены пьесы «Гном» (особенно средний эпизод и реприза), «Тюильрийский сад», «Быдло», «Два еврея» (третий раздел), «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота» (особенно «симфония» колоколов).
Другой способ «укрупнения деталей» – применение парадоксальных динамических нюансов и темповых отклонений6. Например, subito piano вместо ожидаемого усиления звучности резко оттеняет начало нового звена восходящей секвенции в такте 57 пьесы «Старый замок», а внезапная, не вытекающая из предшествующего развития остановка на ноте соль-диез в начале такта 72 той же пьесы заставляет прислушаться к тому, что основная мелодия пьесы с этого момента покидает привычное интонационное русло, варьируется.
С интересной разновидностью парадоксальной динамики мы сталкиваемся при переходе от «Избушки на курьих ножках» к «Богатырским воротам». Динамическое нагнетание в конце первой пьесы, которое, казалось, должно было бы в начале второй разразиться громогласным fortissimo, Юдина завершает не кульминацией, а сменой колорита. Точно так же интерпретирует пианистка и переход от «Лиможа» к «Катакомбам».
Некоторые эпизоды в «Картинках с выставки» Юдина «читает» откровенно вольно. Она отходит от авторских темповых соотношений («Два еврея», ср. andante и andantino), динамики («Гном», тт. 60–71, 76– 86), изменяет длительность нот («Гном», тт. 71, 200; «Избушка на курьих ножках», тт. 73–74), фактуру («Катакомбы», т. 3; «С мертвыми на мертвом языке», т. 20; «Избушка на курьих ножках», т. 74) и даже прибавляет несколько тактов собственной музыки (окончание пьесы «С мертвыми на мертвом языке»).
В других местах пианистка, напротив, с необычайной тщательностью передает мельчайшие подробности текста, мимо которых проходят почти все интерпретаторы. Как скрупулезно выполняет она паузы в «Гноме» (тт. 19–26), педальные указания в «Богатырских воротах» (тт. 81–84)!
«Вольности» и детальнейшее воспроизведение текста – две стороны одной медали – преследуют одну и ту же цель: помочь слушателю постигнуть суть исполняемых пьес, их образный мир. Разве узнали бы мы в гноме человека, который сгорбился под тяжестью судьбы, безуспешно пытается выпрямиться, сбросить с себя роковой груз, не будь полных мучительной борьбы предельных оттяжек темпа, разве представили бы столь зримо наивно-напряженную сценку ребячьей ссоры, не будь причудливых, а порой странных агогических и динамических изгибов, разве возникло бы у нас перед глазами во всей своей горькой конкретности скрипучее, с трудом преодолевающее каждый ухаб, неуклюжее быдло – символ крестьянской нищеты, не будь совершенно неоправданных, с точки зрения привычной музыкальной логики, угловатых accellerandi, ritardandi, crescendi, diminuendi. A tempo rubato в колокольном перезвоне! Какое удивительное приближение к «живой натуре».
В целом в юдинской интерпретации всюду как бы ощущается мудрая рука режиссера, которая властно расставляет смысловые акценты. При этом режиссерские решения весьма оригинальны. Особенно интересно трактован финал цикла. Юдина вносит в эту торжественную, как будто бы эпически статичную массовую сцену у «Богатырских ворот» элемент действия – хор народа и хор калик перехожих, которые обычно предстают обособленными друг от друга, пианистка заставляет взаимодействовать. Создается впечатление, что неожиданно появившиеся калики сурово и торжественно сообщают народу радостную весть. По толпе прокатывается взрыв ликования. Всеобщее ликование захватывает калик, и их второй сказ звучит совсем по-иному, чем первый: при всей своей величавости он полон земной радости.
Пронзительнее других пианистов акцентирует Юдина трагическое начало в «Картинках с выставки». Какой мучительной безвыходностью, каким жгучим отчаянием насыщены ее diminuendi в «Гноме» (тт. 41, 44, 45, 60–71), «Быдле» (тт. 4, 6, 9, 13, 19–20, 22 и т. д.), «Двух евреях» (тт. 9–27), «Катакомбах» (тт. 4–11, 25–28)! Само звучание рояля, рождающееся под пальцами пианистки в этих пьесах, пропитано чем-то горьким, жестоким. Юдина расширяет сферу зла, противостоящего человеку. Она превращает «Балет невылупившихся птенцов» – номер, всеми трактуемый как игривое интермеццо между двумя маленькими трагедиями, – в лишенное чего бы то ни было живого, человеческого механическое скерцо. Бесчувственный, марионеточный характер движения подчеркивают четыре внезапные остановки (тт. 26–30) – будто механизм на мгновение застопоривается. При такой трактовке пьесы в центре цикла «Быдло», «Балет» и «Два еврея» образуют триптих о человеческих невзгодах.
Выше не было ничего сказано о юдинской пианистической технике. Причем, не случайно. Выдающийся мастер сознательно жертвует виртуозностью, словно показывая, что ее роль в сюите Мусоргского незначительна и потому не заслуживает внимания слушателя. Этим, видимо, объясняется нарочито антивиртуозное исполнение пассажей и скачков в «Гноме», «Лиможе», «Избушке на курьих ножках», «Богатырских воротах».
В интерпретации «Картинок с выставки» Рихтером 7 целое – тоже монолит. Однако рождается он из иных предпосылок. Он словно бы медленно поднимается из глубин поэтических раздумий, ассоциируется с гигантским пространством, которое окидывается взглядом с обретенной пианистом высоты. Детали же – на втором плане, хотя несмотря на это вполне различимы. Лишь немногие из них утрачивают четкость контуров (паузы в тт. 19–26 пьесы «Гном», предписанные автором педальные эффекты в пьесах «Два еврея», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»).
Рихтеру чуждо все крайнее и парадоксальное. Его искусство в равной степени свободно и от вольного обращения с авторским текстом и от педантичного следования «букве». Он избегает режиссерских акцентов (например, не выделяет трагическое намеренно). Работа Рихтера-режиссера словно бы и не видна. Мастер предпочитает вести мысль слушателя незаметно. Трагедия личности в «Гноме», перипетии детской ссоры в «Тюильрийском саду», народное горе в «Быдле», социальный конфликт в «Двух евреях» не оттеняются какими-либо броскими исполнительскими средствами. Однако и без них до конца ясно, о чем идет речь, и мы остро переживаем происходящее. Тихие и бурные романтические волнения, нередко захватывающие Рихтера-поэта («Старый замок», «Избушка на курьих ножках»), нисколько не нарушают стройных архитектонических конструкций, возводимых Рихтером-зодчим. Сказанное свидетельствует о гармонии субъективного и объективного, эмоционального и интеллектуального в интерпретации пианиста. Но эта гармония у Рихтера нестатична. В непрерывном противоборстве противоположностей ее образующих, она ежеминутно уничтожается и возникает вновь. Борьба эта протекает скрыто. Ее не распознать сразу. Наиболее рельефно она ощутима в рихтеровском темпоритме. Большую часть номеров сюиты Рихтер играет как будто ровно. Но если прислушаться, то мы заметим, что кажущаяся ровность темпа скрывает непрестанные rubati – едва уловимые ускорения и оттяжки (среди последних, как и у Юдиной, не найти «уютных» ritenuti в конце разделов). Но они порождают колоссальную энергию, которая заряжает слушателя и заставляет его неотступно следовать за мыслью пианиста.
Отражением этой борьбы является неоднозначность творческого состояния, поглощающего артиста во время исполнения той или иной пьесы. Всякий раз особенные творческие состояния у Рихтера неизменно устремлены, как справедливо отмечалось Д. Рабиновичем, одновременно к двум полярно противоположным центрам: музицированию и динамизму8. Когда доминирует первое («Прогулки» № 2 и № 4, «Старый замок», «С мертвыми на мертвом языке»), складывается впечатление, будто Рихтер находится наедине с музыкой. «Никто третий не существует для пианиста в это «чудное мгновенье»9. Он не стремится властвовать над слушателем, в чем-то убеждать его. И слушатель, словно боясь нарушить атмосферу волнующего уединения, затаив дыхание, внимает вдохновению художника. Рихтер весь уходит в мир звукообразов. «До конца, безостановочно сливаясь с ними, он уже не «играет», не «исполняет», не «интерпретирует» (то есть на деле, конечно, – и то, и другое, и третье, но главное не в такой преднамеренности концертанта), а как бы изучает музыку»10. Исчезает
вещественная материальность рояля. Музыка льется, не зная опорных звуков, сильных и слабых долей. Быстрые фигурации (tremolo в пьесе «С мертвыми на мертвом языке») струятся с той степенью свободы, при которой перестает существовать их ритмическая определенность. Движение – завораживающе «текуче». Темп кажется более медленным, чем у других исполнителей «Картинок с выставки» (хотя метроном в ряде пьес – «Прогулки», № 2 и 4, «Старый замок», «С мертвыми на мертвом языке» – свидетельствует об обратном), но отнюдь не затянутым. Динамика заключена в крошечном диапазоне – от piano до mezzo-piano. Ритмическая гибкость мелодии передает не столько пластику линии, сколько тончайшие оттенки настроения. Однако слушатель внимает не абсолютной красоте piano, не завораживающей текучести движения и выразительности фразы.
Рихтеровские «уединения» покоряют своими философскими раздумьями о человеке и человеческом. Именно здесь кроется секрет неотразимости его исполнения пьесы «Старый замок». У всякого другого пианиста, сыграй он ее в таком замедленно-ровном темпе, с такой (мнимой) безнюансностью интерпретации она вышла бы нестерпимо монотонной, скучной.
Когда преобладает тяготение к динамизму («Гном», «Лимож», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»), Рихтер совершенно преображается. Он превращается в сгусток энергии, обрушивается на слушателя неудержимой атакой. Темп – стремителен, линии – упругие, стальные, пассажи – словно молнии, мощные аккорды походят на глыбы неотшлифованного гранита.
Ни музицированию, ни динамизму, характеризующим творческое состояние пианиста, нигде не удается полностью одолеть свою противоположность. Временный перевес одной из сторон ведет лишь к еще более ожесточенной борьбе. Вот почему рихтеровские «чудные мгновенья» неизменно напоены скрытой активностью, что делает их столь «заражающими», а рихтеровский «штурм» никогда не перерастает в демонизм и бравуру. Все это определило своеобразие техники пианиста. В пьесах «Лимож», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота» рихтеровской технике присущи блеск, стихийный размах. И в то же время пафос преодоления трудностей, столь характерный для большинства виртуозов, отсутствует полностью. Кажется, достаточно артисту захотеть, и без каких-либо дальнейших усилий, как бы само собой ему удается то или иное трудное место.
В «Картинках с выставки», исполняемых Рихтером, виртуозное начало всюду остается на втором плане, хотя и не приносится в жертву, как это было у Юдиной. Техника пианиста не бросается в глаза, если на нее не направить внимание.
Интерпретация «Картинок с выставки» Горовицем11 насыщена демоническим динамизмом. Огненный темперамент пианиста не дает опомниться, отдышаться, пока не отзвучат последние аккорды «Богатырских ворот». Эмоциями наивысшей интенсивности заряжена каждая нота. Звучание инструмента опьяняет чувственной прелестью, ослепляет невиданным богатством тембровой и динамической палитры. С первых тактов «Прогулки» слушателя увлекает вихрь дивных красок, ярких контрастов. Каждый номер сюиты пианист наделяет неповторимой тембровой и динамической индивидуальностью (сравните, к примеру, «Прогулки»: первую с третьей, вторую с четвертой). Динамический диапазон простирается от зыбких, воздушных, нежно струящихся, еле слышных, невероятных pianissimo (вторая и четвертая «Прогулки», «С мертвыми на мертвом языке») до лежащих на границе возможности фортепиано, «по-львиному» рыкаюших fortissimo («Катакомбы», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»).
Гипнотизирует, потрясает техника Горовица В ее оценке нет разногласий. И поклонники и противники артиста сходятся на том, что технические достоинства его игры не поддаются описанию, что подобной техникой ныне, пожалуй, никто не обладает. Слушая Горовица, никогда не забываешь о сказочных технических достижениях, ими восторгаешься, как бы отдельно от интерпретации. Однако виртуозность пианиста – не самоцель. Она всюду оборачивается раскрепощенной выразительностью, которая взвинчивает нас. Но как же удалось пианисту добиться указанного эффекта? Ведь в цикле Мусоргского, как уже говорилось, роль, отведенная виртуозности, внешне мало заметна. Да, Горовиц понимал, что высочайшая техника – одно из самых сильнодействующих средств его пианистического арсенала, и если оно не будет пущено в ход, то игра артиста утратит значительную долю своей экспрессивной силы.
Вероятно поэтому он и сделал свою обработку «Картинок с выставки», в основу которой легла партитура, созданная Равелем.
Горовиц видоизменяет фактуру произведения в целом, динамический план ряда номеров (например, пьесы «Быдло»), Помимо того, существенно изменяется и форма; Горовиц делает большую купюру в «Старом замке», пропускает «Прогулку» № 5, переиначивает коду «Богатырских ворот» и т. д. Кажется, отходя от «буквы», мастер отступает и от духа подлинника. Во всяком случае, в обработке, по сравнению с аутентическим текстом, неизмеримо возросло значение декоративных моментов. И все же исполнительские «вольности» пианиста не оставляют впечатления произвола.
Вероятно потому, что интерпретация «Картинок», предложенная Горовицем, выполнена на высоком художественном уровне; можно сказать, что в известном смысле обработка Горовица, подобно лучшим транскрипциям Листа и Бузони, раскрывает основные идеи оригинала средствами, как будто не содержащимися в нем самом.
Так или иначе, раскрепощенная выразительность и колоссальное напряжение, которыми оборачиваются виртуозность, чувственная прелесть звучания инструмента, заряженность каждой ноты эмоциями наивысшей интенсивности, демонизм, упоительные темповые колебания и динамические волны, мягкие агогические закругления разделов – все это говорит о ярком эмоциональном начале в интерпретации Горовица. Характерно в этой связи решение проблемы целого и деталей, которое избирает артист. Благодаря неистовому своему темпераменту, Горовиц привлекает внимание своих слушателей лишь к ограниченному количеству деталей. Частности явно тонут в завораживающем динамичном течении музыки, в целом.
Было бы неверным утверждать, однако, что в игре Горовица эмоциональное полностью преобладает над интеллектуальным. В его записи «Картинок с выставки» начисто отсутствует эскизность. Форма отточена, техника выверена. Все выглядит заранее обдуманным, взвешенным. Чувства умело сдерживаются, контролируются Лишь в кульминациях отдельных пьес («Гном», «Быдло», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота») они как бы внезапно, стихийно обрушиваются на воспринимающего.
Одно из важнейших проявлений интеллектуального в горовицевской интерпретации – режиссерская работа. Она не стремится быть незаметной для слушателя, напротив, почти всюду бросается в глаза. Например, в «Двух евреях» пианист намеренно акцентирует бытовое, комическое, специфически национальное. Социальное же определенно затушевано. Богатый еврей у Горовица до смешного туп, надменен, самодоволен. Бедный – навязчив.
Два последних номера сюиты Горовиц объединяет сквозным действием. Стихийный разгул сказочных сил зла, который бушует в коде «Избушки на курьих ножках», не обрывается, а, словно укрощенный богатырем, превращается в могучие, торжественные аккорды «Богатырских ворот».
По-иному, чем другие исполнители, Горовиц показывает трагическое. Нас не пугают мрак, дыхание смерти в «Катакомбах», не ужасают невыносимые страдания личности в «Гноме», не потрясают народные беды в «Быдле». Вернее, мы, конечно, испытываем и испуг, и ужас, и потрясение, но ни на мгновение не забываем, что все эти события нереальны, что они – всего лишь игра (как в театре «школы представления»).
Слушатель этой пластинки, прежде всего, восхищается блеском «театрального представления», а уж потом переживает, сострадает, скорбит.
Горовиц-актер вызывает восторг великолепными речевыми характеристиками, их выразительностью, меткостью, выпуклостью («Тюильрийский сад», «Два еврея», «Лимож»), Однако горовицевские характеристики разительно непохожи на юдинские. Первые формально ярче, но идейно беднее вторых.
Подведем итоги анализа и напомним некоторые, наиболее существенные выводы. Давая характеристику интерпретации Юдиной, Рихтера и Горовица, мы столкнулись с тремя различными тенденциями в прочтении «Картинок с выставки». Горовиц радикально преобразует авторскую фортепианную «инструментовку». Подобным образом поступали и другие пианисты XX века (например, Корто). Они, словно все еще не веря в пианистичность цикла, перестраивали каждый на свой лад его фактуру, отталкиваясь чаще всего от принципов, положенных в основу равелевской партитуры.
Рихтер отстаивает жизненность аутентического изложения. В XX веке под влиянием творчества Бузони, Бартока, Стравинского, Хиндемита и особенно Прокофьева и Шостаковича постепенно изменялся взгляд на фортепианные новации Мусоргского. Их признали и оценили многие. Возникла тенденция исполнять сюиту без переделок. Одним из первых, кто воссоздавал «Картинки с выставки» без отступлений от оригинала, был С. Прокофьев. Валики «Вельте-Миньон» сохранили для потомков его версию пьес «Быдло» и «Балет невы- лупившихся птенцов», которая свидетельствует о глубоком понимании крупнейшим советским композитором фортепианного стиля Мусоргского.
Наконец, Юдина подлинник в целом не модернизирует, но отходит от «буквы» отдельных эпизодов, стремясь отчетливее показать их сущность. Эта тенденция в наше время пока не получила широкого распространения (она свойственна, пожалуй, лишь трактовке В.Мержанова). Иное дело – отношение к речевому интонированию, столь характерному для Мусоргского. Запечатлевая «обзор» своих персонажей, Юдина достигала зримости, осязаемости образов, передавала нечто внутреннее, затаенное в глубинах человеческой души. Данная тема ясно проступает у П.Серебрякова, В.Мержанова, а из более молодых, например, у Е.Новицкой.
Рихтер в прочтении цикла не стремится специально выявить речевые моменты мелоса. И все же его «Картинки с выставки» вызывают ничуть не менее определенные представления о духовном мире действующих лиц сюиты.
...Юдина, Рихтер и Горовиц – художники почти во всем разные. Соответственно, каждый из артистов в силу специфики творческой индивидуальности имеет свой круг наиболее «удающихся» композиторов. Однако все трое, обратившись к сюите Мусоргского, создали шедевры исполнительского искусства. Возможность выдающихся исполнительских истолкований цикла пианистами столь разных направлений обусловлена исключительной многогранностью его содержания. Композиторский замысел сюиты привлек к себе внимание Юдиной, Рихтера, Горовица гранями, близкими их художественным credo. Эти грани и были воссозданы мастерами. Каждая из них настолько значительна сама по себе, что у слушателя всякий раз возникает впечатление всестороннего раскрытия сущности гениального сочинения Мусоргского.
---------------------------------------------------------------
Сирятский Виктор Алексеевич окончил в 1971 году Харьковский искусств как пианист и композитор, ассистентуру-стажировку - при Ленинградской государственной консервагории. В настоящее время – старший преподаватель Харьковского института искусств.
1 Скачкообразная нюансировка Мусоргского напоминает использовавшийся мастерами XVIII века принцип «террас». Романтики, как известно, от него отказались. Мусоргский же, обратившись к «ступенчатой» динамике, как бы предвосхитил многообразное употребление этого выразительного средства музыкантами XX столетия (Бузони, Прокофьевым, Бартоком, Шостаковичем и др.
2 См. Л.Полякова. «Картинки с выставки» Мусоргского. М., 1960, с. 24.
3 Партитура «Картинок е выставки» была создана и советским дирижером С.Горчаковым. В его оркестровой версии, отвечающей духу «подлинника», «Картинки с выставки» многократно исполнялись в нашей стране и за рубежом.
4 Мелодия», ЗЗД 027239 – 027240
5 Г.Коган. Техника и стиль в игре на фортепиано (о книге Мартинсена) в сб.: Г.Г.Коган. Вопросы пианизма. М., 1968, с. 55
6 Парадоксальными условимся называть такие динамические нюансы и темповые отклонения, которые в первое мгновение кажутся противоречащими логике музыкального развития.
7 «Мелодия», Д 4596-4597.
8 См.: Д.Рабинович. Портреты пианистов. М., 1970, с. 255.
9 Г.Коган. Вопросы пианизма. М., 1968, с. 375.
10 См.: Д.Рабинович. Портреты пианистов. М., 1970, с. 256.
11 RCA-Victor, M – 2357, E.

Д.Ойстрах. «Великий художник нашего времени».
«Музыкальная жизнь», 1976, №17.
…Так появилась Соната для скрипки и фортепиано, написанная «в честь 60-летия Давида Ойстраха», ор. 134. Я этого не ожидал, хотя уже давно мечтал о том, чтобы Шостакович написал скрипичную сонату.
Это был великолепный подарок не только мне, конечно, но всей нашей музыке. В мае 1969 года мы вместе с С. Т. Рихтером сыграли сонату в Москве. Потом мы не раз ее играли и в других городах Советского Союза, и за рубежом. Повсюду сонату встречали горячо.
Соната записана по трансляции из Большого зала консерватории. Мы с Рихтером играли ее два вечера подряд; таким образом, из двух записей звукоинженеры «Мелодии» имели возможность смонтировать пластинку. Запись по трансляции, как мне представляется, имеет преимущества перед студийной. В студии никогда не удается привести себя в состояние артистической приподнятости так, как на концертной эстраде. И если тебе удалось избежать каких-либо технических погрешностей и случайностей, то такая запись приобретает качества, которых очень трудно добиться в студийной обстановке: это жизненное дыхание музыки, порыв, искренний темперамент — все то, что несет общение с благожелательной аудиторией, свет рампы, атмосфера зала.
...К большому сожалению, в последнее время мы встречались с Дмитрием Дмитриевичем не на той творческой почве, как раньше. В 1973 году я провел много месяцев в больнице. Дмитрий Дмитриевич тоже болел и попадал туда же периодически, мы с ним много общались. Он заходил - в мою палату почти ежевечерне, когда я еще не мог подыматься с постели. Это было очень трогательно. Я лежал, он садился около, мы слушали музыку, говорили о музыке. Когда же мне разрешили вставать с постели, я тоже стал его посещать. Это наше грустное существование очень нас сблизило. Для меня лично оно согревалось лучами этой теплой, хорошей, не только творческой, но и человеческой дружбы.
Я счастлив тем, что вскоре после моего возвращения домой из больницы смог откликнуться на предложение английской радиокорпорации «Би-Би-Си» принять участие в телефильме, посвященном Д. Д. Шостаковичу, и, невзирая на медицинские запреты и советы докторов, сыграть вместе с С. Т. Рихтером фрагмент из сонаты.

Ан. ВАРТАНОВ.
«Музыкальная жизнь», 1976, № 17.
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ КОНЦЕРТЕ
Есть в нашей музыкальной жизни такие события, свидетелем которых хочет стать каждый подлинный любитель искусства. Есть, например, концерты, которые несомненно войдут в историю исполнительского творчества. Не побывать на них – большая утрата для истинного ценителя музыки.
Но, с другой стороны, можно ли сегодня, когда музыкальная жизнь стала невероятно интенсивной, когда выдающиеся концерты происходят не только в столице, но и в ряде других городов, побывать на всех или хотя бы на большинстве из них? И еще – как увеличить вместимость зрительных залов? Когда речь идет о выдающемся музыкальном событии, непосредственными свидетелями которого могут стать лишь тысяча, от силы полторы тысячи счастливчиков, остро и неумолимо встает вопрос: как сделать, чтобы их число увеличилось в сотни, тысячи раз?
Грамзапись, воссоздавая фонограмму концерта, не может передать облик исполнителя, саму атмосферу концерта. Трансляция по радио обладает достоинствами сиюминутности происходящего, однако живое «дыхание» зала оказывается купленным дорогой ценой, ценой утраты зрелищности. Ближе к цели подходит кинематограф: фильм нередко способен довольно точно воспроизвести искусство того или иного выдающегося исполнителя. Но и у кино есть недостаток. Оно, с его громоздкой техникой, практически не может вести оперативный репортаж непосредственно с концерта. Киносъемки во время него будут мешать и исполнителю, и слушателям: осветительная, съемочная, звукозаписывающая аппаратура – все это не для филармонических залов...
То, что для кино оказывается задачей чрезвычайно сложной, вполне по силам новой, самой молодой музе – Телевидению. Его легкая, портативная съемочная техника, неназойливое, почти естественное освещение позволяют передавать событие в самый момент его свершения, сохраняя все признаки художественной целостности.
Телевизионный фильм «Рассказ об одном концерте, или Последняя соната Бетховена» был показан по Центральному телевидению несколько раз. Два слова об истории этого телефильма.
12 января 1975 года в Большом зале Московской консерватории состоялся замечательный концерт, посвященный памяти Генриха Густавовича Нейгауза. Ученик выдающегося педагога Святослав Рихтер исполнял Сонату № 32 Бетховена. Нейгауз, как известно, немало написал об интерпретации и интерпретаторах этого произведения и считал Рихтера одним из самых глубоких толкователей бетховенского шедевра.
Кинематографисты из творческого объединения «Экран»: сценарист Андрей Золотов, режиссер Святослав Чекин, операторы Вилли Горемыкин, Аркадий Едидович, Леонид Придорогин, Аркадий Громов, звукооператоры Илья Ляховицкий и Арсен Рейниш – взяли на себя трудную задачу донести до телезрителя это живое и ни с чем не сравнимое концертное впечатление. Запечатлеть концерт памяти Г. Г. Нейгауза во всей его неповторимости они считали своим профессиональным долгом, делом чести. Я говорю об этом в столь приподнятом тоне, потому что снять концерт, ни в чем не нарушив торжественно-интимной атмосферы его, не помешав пианисту, было невероятно трудно, несмотря на все преимущества телевидения. Как именно снять концерт, какой найти ключ для раскрытия его содержания – эта проблема всякий раз вновь и вновь встает перед тем, кто берется за создание телевизионного фильма-концерта. Тем более, когда у кинематографистов нет никаких возможностей для репетиций, проб, когда время съемок фильма равно времени самого концерта.
Авторы взялись решить сложную задачу, используя минимальные художественные средства. Они, оберегая творческое самочувствие пианиста и уважая присутствовавшую на концерте публику, поставили в зале всего три легкие съемочные камеры, почти не добавили специальной осветительной аппаратуры. В этом решении была немалая доля риска: съемка могла оказаться техническим браком Кстати сказать, будь это в кино думаю, строгое ОТК признало бы изображение негодным: в тенях много непроработанных деталей, часто появляются блики там, где им не положено быть... Однако на телеэкране то, что в кино было бы серьезным недостатком, оказывается вполне допустимым. Мало того, нередко даже оборачивается достоинствами того жанра, который избран авторами телевизионного произведения. Техническое несовершенство изображения неожиданно обостряет ощущение подлинности и, я бы сказал, драгоценности увиденного нами. Нас как бы приглашают к серьезному и глубокому переживанию музыки, сразу же предупреждая, чтобы мы не ждали внешне эффектного зрелища.
Этическая позиция авторов не позволяет им, скажем, прибегнуть к услугам столь распространенной ныне «скрытой камеры»: телезритель видит Рихтера так же, как могли видеть его участники незабываемого концерта. С помощью специального устройства – трансфокатора – глаз камеры иногда приближается к музыканту: можно сказать, что мы изменили позицию в зрительном зале, оказавшись не в амфитеатре, а в одном из первых рядов партера. Очень редко, в моменты высочайших взлетов исполнительского лиризма, телекинематографисты дают портрет музыканта крупным планом, и тогда мы видим сведенные брови, закрытые глаза, запрокинутое лицо... Прекрасен образ художника, целиком отдавшегося исполняемой музыке, художника, вошедшего в ее мир, творящего ее на наших глазах. В ряде поразительно схваченных камерой мест – скажем, там. где Рихтер, чуть откинувшись назад, слушает нежнейшие тремоло, – у нас создается поразительное ощущение соучастия в акте творчества.
Исполнение Рихтера, запечатленное (и, что немаловажно, записанное на фонограмму) во время концерта 12 января 1975 года, в фильме предварено тщательно продуманным и неторопливо снятым в студийных условиях вступительным словом, где Дмитрий Николаевич Журавлев, сам огромный знаток и ценитель музыки, рассказывает о сонате и ее авторе много такого, что поможет миллионам телезрителей глубже и полнее воспринять услышанное. Звучат слова Нейгауза, сказанные им о Бетховене и о Рихтере, звучат строки из «Доктора- Фаустуса» Томаса Манна об исполнении 32-й сонаты, мысли Нейгауза о Манне.
Ведущий говорит о том, что Рихтер никогда не стремится сделать Бетховена более доходчивым, понятным, чем он есть на самом деле, он доверяет слушателю: в этом отличие большого художника от заурядного «культуртрегера». Мне, признаться, эти слова показались выходящими за пределы суждения об исполнителе: в них я услышал очень важное утверждение взглядов авторов телефильма и на свою творческую миссию. Соприкасаясь с актом высокого музыкального творчества, приобщая к нему нас, телезрителей, они отказались от соблазнительной возможности дать его в ореоле кинотелевизионных эффектов. Они выбрали, как Рихтер, путь внешне простого, но внутренне напряженного и сосредоточенного раскрытия образов музыки. И одержали на этом пути победу.
Ан. ВАРТАНОВ

Я.Мильштейн.
«Советская музыка», 1977, №2.
ВЕЛИКИЙ АРТИСТ СОВРЕМЕННОСТИ
Много лет прошло с тех пор, как на концертной эстраде впервые появился Рихтер. И каких лет! Изменилось лицо мира, преобразился лик искусства. Изменился и сам Рихтер. Из пианиста, которого знали лишь немногие, он превратился в великого артиста, известного всему человечеству. Поистине огромна дистанция, отделяющая то, с чего он начал, от того, к чему пришел. Было, время, когда он в преизбытке сил порой впадал в преувеличения, «хватал через край». Мы хорошо помним Рихтера «атакующего», «штурмующего небо». Стихийная сила, безудержный порыв преодолевали любые преграды. Рихтер весь был в борении, в схватке. Неукротимая властная воля господствовала, повелевала, покоряла, подчиняла себе слушателей. Сказывалось особое пристрастие к крайностям, внезапным переходам из одного эмоционального состояния в другое, от бурного кипения к безмятежному спокойствию, от мощнейшего fortissimo к легчайшему, словно дуновение, pianissimo. Смелость, свобода, широта, размах исполнения действовали с неотразимой силой, опрокидывая все наши представления о возможном и достижимом. «Риск», «отвага», «доблесть» – этими словами удачно определяли беспредельную виртуозность Рихтера, именно в этих своих качествах не знавшую себе равной.
Ныне Рихтер закономерно пришел к органичному слиянию всех элементов исполнения в одно неразрывное целое, в единый живой организм. Он уже достигает цели с помощью подчиненной разуму воли – подчиненной полностью, без остатка, организованной до предела. Он и повелевает, и убеждает, и диктаторствует, не щадя себя, и мудро экономит силы. Он играет с подкупающей естественностью, легко, непринужденно, без всякого нажима. Пристрастие его к двум крайностям, к двум эмоциональным полюсам сохранилось. Но оно стало иным. И главное, оно пополнилось еще постепенностью переходов. Перед нами художественная шкала с бесчисленными градациями эмоциональных оттенков, динамических и агогических приемов, штрихов. Сохранились в игре Рихтера и смелость, свобода, широта, размах. Но теперь эти качества, введенные в надежное русло, стали более обоснованными самой логикой исполнения. Никаких отступлений от предначертанного. Ни одного штриха, сделанного напрасно. Все оправдано, выявлено, выточено. И все находится на своем месте.
Да, многое изменилось в артистическом облике Рихтера. Его искусство стало еще совершеннее, тоньше, одухотвореннее, человечнее. Но все же Рихтер в основе своей остался Рихтером. С первых же концертных выступлений был ясен огромный масштаб его дарования, неслыханно многогранного, всеобъемлющего и вместе с тем - глубокого. В Рихтере всегда поражали мощь и своеобразие музыкального интеллекта, органичное сочетание поэтического и рационального начал (если так можно сказать, «романтизм» интеллекта), устремленность и безошибочность творческой воли, бескрайность художественной фантазии. Его отличали интуитивное постижение музыки, проникновение в самую суть исполненных произведений, в душевный мир каждого автора. Учитель Рихтера Г.Нейгауз как-то великолепно сказал о нем, тогда еще сравнительно молодом: «...в его черепе, напоминающем чудесные куполы соборов Браманте и Микеланджело, в с я музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках у Рафаэлевской мадонны» (разр. моя.– Я.М.). Это глубоко верно! Причем, воссоздавая всю прекрасную музыку, чувствуя стиль и характер исполняемого, безмерно уважая волю автора, глубоко веря в него, Рихтер оставался самим собой, верил и в себя. Ему свойствен истинно творческий подход к исполняемому, основанный на родстве его художественного мира с миром тех великих композиторов, которых он играл и продолжает играть. Рихтер никогда не противостоит исполняемому произведению, а, напротив, находится с ним в органической связи. Он обретает внутреннюю и внешнюю свободу, только овладев закономерностями исполняемого.
В Рихтере всегда привлекала ясность исполнительских намерений. Он знает, чего он хочет, где он хочет, как он хочет выразить свою мысль. Несмотря на окрашенное романтизмом восприятие мира, его можно назвать пианистом классически ясной музыкальной формы. Вдохновение, стихийная сила, энергия сочетаются в нем с поразительной внутренней сосредоточенностью, которая в свою очередь является выражением величайшей душевной силы, душевной мощи.
С ясностью намерений у Рихтера неразрывно связано стремление к целостному охвату произведения и одновременно к максимально ясному и точному выявлению каждой детали. Его игру не без основания сравнивали с «орлиным взором», с «орлиным полетом»; с невероятной высоты видно сразу все – и «безграничные просторы» и «малейшие мелочи». Это стремление, основанное на единстве внутренних противоборствующих сил, всегда было присуще Рихтеру; с годами оно лишь стало «овеществляться» у него более совершенным образом.
Издавна Рихтеру было свойственно не только особое «слышание», но и особое «видение» мира. Не случайна его тяга с ранних лет к живописи, театру, к «зримым» образам искусства: она порождена самим существом, природой его художественного дарования. (Не потому ли образы, создаваемые им в процессе исполнения, столь жизненны и выпуклы? Не потому ли они так врезаются в сознание слушателей? Они и в самом деле «зримы».)
Рихтер постоянно мыслит оркестрово, как дирижер. Его умение соподчинять различные звуковые планы по степени их значимости, его владение «звуковой перспективой», тембровыми оттенками, светотенью, наконец, поразительно точное, конструктивно-четкое ощущение ритма восхищали и продолжают восхищать слушателей. Он по-дирижерски искусно владеет и временем, почти не зная в этом отношении себе равных.
Наконец, Рихтер всегда был первооткрывателем. Не любил ни в чем повторять себя. Он мог десятки раз играть одно и то же произведение, но каждое исполнение его было неповторимым. Он как бы открывал и переоткрывал исполняемое заново. Тем самым он каждый раз ставил перед собой и перед другими новые проблемы. Его вкус, безжалостный ко всякого рода манерности, разбухшим эмоциональным проявлениям, предохранял его от какой-либо возможной на этом пути искусственности, надуманности. Добавим к этому, что выработанные Рихтером технические приемы никогда не становились для него стандартом. Оставаясь верным им по духу, он в то же время постоянно видоизменял их, используя их всегда по-новому.
Чем выше мечта, тем труднее ее полное воплощение. Это общеизвестно. И все же Рихтер неизменно стремился к самому высокому. Он никогда не успокаивался на достигнутом, настойчиво шлифуя, совершенствуя свое искусство. Его виртуозно-технические искания, поиски высокого мастерства были безграничны, смелы, отважны, целенаправленны. Невольно вспоминаешь образ античного возницы, в котором молодой Гёте некогда запечатлел пример истинной виртуозности:
«Когда ты смело стоишь на колеснице и четверка необъезженных коней в диком несогласии рвется из-под твоих вожжей, ты же направляешь их силу, бичом осаживаешь устремившихся вперед и заставляешь спуститься ставшую на дыбы, гонишь и правишь, заворачиваешь, бьешь, принуждаешь остановиться – и снова гонишь вперед, покуда все шестнадцать ног в согласном беге не устремят тебя к цели – вот это мастерство, виртуозность!»
Да, все искания Рихтера были так или иначе направлены к этой цели – развернуть во всю ширь свой талант, «взнуздать» непокорные силы, обрести себя «в согласном беге», стать полновластным хозяином в своем деле.
Быть может, именно столь редкое сочетание самых противоположных ценнейших качеств позволило Рихтеру сохранить свои силы на протяжении многих лет. Не секрет, что часто исполнители с годами тускнеют. Они стареют не только телом, но и душой. Изнашивается их «образная машина», притупляется внимание. Рихтер – редчайшее исключение. Словно годы не властны над ним. Его фантазия по-прежнему неисчерпаема, звуковая палитра – безгранична, темперамент – захватывающе ярок, молод. А ведь быть молодым – это и есть искусство. Сохранить свежесть чувства, ясность мысли, дар одухотворения, точность движений, живость, человечность – разве это не прекрасно? Да еще обрести при этом совершенство, высшее мастерство! Что может быть лучше в искусстве, чем, оставаясь живым, человечным, достичь совершенства! И что может быть труднее, – хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать пианистов, которым удалось осуществить это, сохранить себя полностью в искусстве.
Концерты Рихтера (прошедшие в Большом зале Московской консерватории 10, 11, 15, 16 октября) ожидались москвичами с огромным нетерпением. Не скроем: многих волновал вопрос, каким ныне предстанет на концертной эстраде Рихтер. Сольных концертов в Москве он не давал свыше года. Длительно болел, немало пережил... Но после первых же тактов всем стало ясно, что Рихтер по-прежнему и даже более чем когда-либо действительно великий артист.
Три композитора были в центре концертных программ Рихтера: Бетховен, Шопен и Шуман. Кроме того, сверх программы, пианист играл еще сочинения Дебюсси, Рахманинова, Шопена и Вагнера. Все эти авторы для Рихтера всегда были особенно дороги. Шопену, как известно, был целиком посвящен его первый самостоятельный концерт. Бетховен и Шуман входили в его репертуар с ранних лет. Дебюсси и Вагнер, по его собственному признанию, принадлежат к числу его любимейших – смолоду – композиторов. Сочинения Рахманинова он неоднократно исполнял в своих концертах – как сольных, так и симфонических.
В исполнении Бетховена, быть может, заметнее, чем где-либо сказывается потенциально творческое, композиторское начало, столь свойственное вообще Рихтеру. Рихтер близок к Бетховену в самой сути – органическом единстве разума и чувства, общечеловеческого и личного, свободы и упорядоченности. Его Бетховен – ясный, глубокий по мысли, живой по чувству, стройный, совершенный по форме. В нем нет ничего пустого, шаблонного, надуманного, фальшивого. Нет и расплывчатости, разорванности, неопределенности. Все слажено, взаимосвязано, спаяно воедино и вместе с тем одухотворено. Фантазия исполнителя отталкивается от восприятия бетховенских ощущений и мыслей, но силы свои она черпает из жизни. Причем, творя согласно собственной фантазии, Рихтер точно осознает стилевые особенности различных творческих периодов композитора. Он воссоздает Бетховена по-разному, в зависимости от характера исполняемого.
Вспомним концертные выступления Рихтера с тремя последними сонатами Бетховена (№№ 30, 31, 32), где все было наполнено внутренней напряженной жизнью, где выявлялись с предельной четкостью характерные черты позднего Бетховена. Или исполнение Рихтером (в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и в Центральной музыкальной школе) сонаты ор. 106 (№ 29) – крупнейшей из бетховенских сонат. Не каждому, даже выдающемуся, исполнителю удавалось достичь таких интерпретационных высот, таких стилевых прозрений, каких достиг здесь Рихтер.
Теперь Рихтер предстал с ранними сонатами Бетховена (№№ 1, 7, 9 и 12) – совсем иными по настроению, по воплотившимся в них переживаниям. Как великолепно сумел он передать и в исполнении этих сонат, столь отличных от поздних, их своеобразные и вместе с тем родовые стилевые черты! Сдержанность, устойчивость ритма. Отчетливость, стройность, легкость линий. Предельное совершенство деталей. Контрастность штрихов, оттенков – внезапные sforzati, всегда рельефные и в то же время соразмерные с общей динамикой, subito piano после crescendo, акценты на слабых долях такта, чисто оркестровые эффекты вроде небольших crescendi на выдержанных нотах, выразительные паузы – и вдох и выдох! Мы не говорим уже о поразительно ясном осознании гармонических сдвигов, их соподчинении, соотношении по степени значимости, о подчеркивании существенных модуляционных переходов, – все вырастало у него естественным путем. (Не свидетельствует ли это лишний раз о том, что в основе исполнительского искусства Рихтера лежит истинно творческое начало? Ибо только интерпретатору-творцу в высокой мере свойственно ощущение гармонических изменений, сдвигов, переходов!)
Замысел Первой сонаты у Рихтера, в сущности, весьма прост – в точном соответствии с бетховенским замыслом. Первые три части как бы аккумуляция энергии, четвертая часть – ее щедрая отдача. Но у Рихтера это не безудержный эмоциональный напор. Не то, что, скажем, так восхищает нас в финале рихтеровской «Аппассионаты». Это шедевр быстроты, взволнованности, но не шумной бури (вспомним хотя бы фигурации в партии левой руки, где все словно бурлит, легко движется, или архисовершенное legato в октавах – dolce – в партии правой руки). В целом соната у Рихтера – образец одухотворенной лаконичности; средства скупые, но необыкновенно выразительные; звучание именно таково, каким оно должно быть.
Вообще финалы сонат приобретают у Рихтера особое смысловое значение – и в Седьмой, и в Девятой, и в Двенадцатой сонатах: легкие, словно окрыленные, они как бы синтезируют, завершают развитие произведения, подытоживают сказанное в первых частях.
Столь же важное, принципиальное значение у Рихтера приобретают медленные части сонат. В Первой это контраст настроений, сравнительно спокойный; в Седьмой и Двенадцатой сонатах это контрасты крупного драматического плана: минор противопоставляется мажору других частей, скорбь, печаль – свету и радости.
Пожалуй, в Бетховене Рихтер больше, чем другие, прибегает к строго логическому мышлению. Все у него так или иначе обусловлено. Точно осознана архитектоника сонат. Контрасты не сглажены, а, напротив, подчеркнуты. Владение временем – и в большом и в малом – безупречно. Совершенство, достигнутое здесь Рихтером, тем более примечательно, что оно не связано ни с каким художественным компромиссом. Замысел и его воплощение разделены у него куда большей пропастью, чем у большинства других исполнителей (ибо замысел велик!). Но пропасть эта преодолена полностью.
Шопена Рихтер играл достаточно много, хотя и не столь часто, как Бетховена. Но всегда по-своему. Это был Шопен совсем иной, чем, скажем, Шопен Игумнова, Софроницкого, Нейгауза или Корто и Артура Рубинштейна... И вот Шопен снова в программах рихтеровских концертов. Причем Шопен самых разных жанров. Здесь и полонез (Полонез-фантазия ор. 61), и вальсы (фа мажор ор. 34 № 3 и ре-бемоль мажор ор. 70 № 3), мазурки (до-диез минор ор. 63 №3, до мажор ор. 67 № 3, фа мажор ор. 68 № 3, ля минор ор. посмертный № 2), этюды (до-диез минор ор. 25 № 7 и – на «бис» – до-диез минор ор. 10 № 4), скерцо (ми мажор ор. 54). И весь этот сложный, богатый мир шопеновских образов Рихтер сумел раскрыть с редким – даже для себя – совершенством. Возникало ощущение полного слияния пианиста с исполняемой музыкой, а в ряде произведений (особенно в Скерцо) – какой-то чудесной легкости, пластичности, столь свойственной именно Шопену. Пленительно хороши были Этюд до-диез минор ор. 25 № 7 – шедевр лирики и мазурки, совершенно разнообразные, одна на другую не похожие, обаятельные в своей непосредственности, – лишнее доказательство того, чего можно достигнуть в исполнении, если не подменять подлинной поэзии и вдохновения суррогатом чувства, искусственной подделкой, если умело сочетать четкость и определенность линий с нежными приглушенными красками.
Но, пожалуй, всего более в исполнении Рихтером Шопена поражала необыкновенная простота, совершенство простоты, причем простоты не наивной, а порожденной длительными усилиями. Как не вспомнить было при этом завет самого Шопена: «Исчерпав все трудности... мы видим перед собой простоту, которая во всем своем очаровании является последней печатью искусства». Иными словами, прийти к простоте сразу невозможно. Путь к ней лежит через сложное; простота – конечная цель искусства. Именно это мы и почувствовали в рихтеровском исполнении Шопена: высшим искусством стерты следы всякого искусства.
Из произведений Шумана Рихтер исполнял в своих концертах – дважды – «Венский карнавал». Трудно открыть что-либо новое в пьесе, где все, казалось бы, давным-давно известно. Но Рихтеру все же удалось это сделать. Он внес в это произведение частицу собственного творчества. «Венский карнавал» словно засверкал у него тысячью новых оттенков. Причудливо сплелись здесь различные сюжетные линии, контрастные образы, то исполненные неиссякаемой энергии, то сокровенно-интимные (как в «Романсе», приобретшем под пальцами Рихтера необыкновенно привлекательный «говорящий» характер).
Великолепными были и пьесы, исполненные Рихтером сверх программы. Кажется, Софроницкий как-то заметил, что «бисы» артиста – это своего рода «золотоносная жила», когда приходит «второе дыхание». На этот раз у Рихтера, обычно скупо бисирующего, «золотоносная жила» оказалось на редкость щедрой. Так, в концерте 10 октября он сыграл на «бис» шесть пьес. То были три прелюдии Дебюсси – «Ветер на равнине», «Ундина», «Вереск», словно пронизанные светом и воздухом, неподражаемо поэтически-живописные, архисовершенные по звучанию. Прелюдия соль-диез минор Рахманинова, Этюд до-диез минор ор. 10 № 4 Шопена (непостижимое, поистине нечеловеческое prestissimo и феерическая легкость!) и, наконец, Прелюдия ре-бемоль мажор Шопена (нежно-неумолимая). Надо ли говорить о том, сколь большого искусства требует исполнение небольших, разных по характеру произведений. Каждый элемент исполнения должен быть предельно сконцентрирован, отточен. Малейшая несобранность чревата опасностью: в немногом надо выразить многое!
Да, концерты Рихтера прекрасны. Они свидетельствуют о новом взлете его огромного таланта. Это событие, незабываемое для всех тех, кто на них присутствовал. Воочию можно было убедиться, что значит настоящая фортепианная игра и что способно дать людям музыкальное исполнение.
Я. Мильштейв
Б.Кац. "Письма из филармонии" (фрагмент). "Аврора", 1977, №6.

Дискография
«Советская музыка», 1978, №3.
М.Нестьева
(Сонаты Шуберта в исполнении С.Рихтера, В.Кемпфа, А.Шнабеля и В.Софроницкого.)
Полный текст здесь: https://yadi.sk/d/x6dzOzU53GU6rS
«Творец лунных лучей и пламени солнца»
Однажды в разговоре с известным современным композитором я услышала: «Мне бы хотелось в своей жизни написать хоть две страницы как у Шуберта». Сначала признание показалось странным, потом смысл слов прояснился: искусство австрийского мастера напоено светом, красотой, гармонией; в него погружаешься, чтобы умерить смятение, обрести желанный покой, запастись душевным здоровьем. Качества эти, как известно, не часто одаривают сегодня музыку. И в признании современного автора – жажда их обрести вновь, овладеть секретом духовности Шуберта.
Когда мы слышим музыку этого композитора, то эмоции радости, счастья, полнокровности жизнеощущения часто оттеняются в ней моментами скорби, печали, горестных раздумий. Иначе говоря, Шуберт как художник в полном понимании этого слова обладает поразительной способностью схватывать жизнь во всем ее многообразии нюансов, метко и сразу фиксировать впечатления, полученные от реального мира. Он «находит звуки для тончайших чувств и мыслей, даже для происшествий и житейских обстоятельств»1,– писал Шуман. Это мастер, «кисть которого одинаково глубоко была напоена как лунными лучами, так и пламенем солнца»2 «чем для других является дневник, в который они заносят свои мимолетные переживания и т.д., тем для Шуберта, собственно говоря, был лист нотной бумаги...»3.
Сейчас, как никогда ранее, возрос интерес к музыке Шуберта. Его симфонии, песни, сонаты много звучат в концертах, на пластинках. Среди исполнителей и прославленные артисты, и интерпретаторы, лишь начинающие свой художественный путь. Главную причину такого интереса стоит, вероятно, искать в редкой природе творческого дара великого австрийца: «Все личное в его музыке не воспринимается как насилие властного «я» над безличной средой и как внушение людям своих глубоко субъективных ощущений. Личное начало проявляет себя здесь с удивительной скромностью: оно... всегда находит выразительный язык, понятный людям и легко усваиваемый... Шуберт больше принадлежал всем – окружающей среде, людям и природе,– чем себе, и музыка его была его пением про все, но не лично про себя»4.
Казалось бы, при таких качествах доступность воспроизведения этой «поющей про все» музыки и легкость ее восприятия несомненны. Однако опыт показывает, что это не так: легкость исполнения и даже иногда слушания произведений Шуберта, в особенности инструментальных, иллюзорна, чтобы не сказать обманчива. На мой взгляд, три основные трудности подстерегают интерпретаторов его музыки.
Первая: фигура Шуберта на исторической лестнице занимает промежуточную ступень, стоит как бы на рубеже разных стилей и направлений. По ясности мышления, обращению с жанрово окрашенным материалом, некоторым конкретным приемам письма он из рода классиков. По специфике мироощущения, особому пристрастию к природе, характеру песенности и темброво-танцевального колорита он, конечно же, романтик. Можно сказать, что среди классиков Шуберт романтик, а среди романтиков – классик. Взрастив на плодородной классической почве романтические цветы, он сообщил этим цветам поразительную жизнестойкость. И кто, как не он дал в наследство Шуману и Брамсу мелодическое очарование, гармоническую изысканность, от кого восприняли они импульс для изобретательных фактурных идей! Причем каждый из этих композиторов воспользовался традицией по-своему. Но одно дело (сейчас уже речь о позиции исполнителя) высветить в индивидуальности Шуберта черты его предшественников и преемников, другое же, так выделить эти черты, что уйдет в тень своеобразнейшая индивидуальность самого австрийского художника. Например, играть Шуберта как Гайдна или Бетховена, Шумана или Брамса. У каждого из них свой мир, свои идеи, свой художественный кругозор. Скажем, натурфилософских взглядов, близких Гайдну, у Шуберта – восторженного непосредственного почитателя природы – мы не найдем. В общем, Гайдну – Гайдново, Шуберту–Шубертово. И доминанта индивидуальности всегда должна ощущаться.
Играть музыку австрийского чудотворца – и тут вторая трудность, подстерегающая его исполнителей,– это, вероятно, значит найти точное соотношение в тоне высказывания между непосредственностью сменяемых внешних событий и их значительной, глубоко содержательной внутренней сущностью. В правильно найденном таком соотношении и таятся, мне кажется, те самые гармония, красота, благородство – качества, так дефицитные сегодня в музыке, другими словами, неуловимое сочетание объективного и субъективного, вечного и преходящего, которым славно искусство Шуберта.
Наконец, третья трудность – собрать ткань, изобилующую большим разноликим материалом с обилием повторов, единообразных по настроению кусков в единое целое, построить художественный организм по правилам определенной концепции.
Проследить, как побеждают названные трудности интерпретаторы – цель данной статьи. Материал ее – Фортепианные сонаты Шуберта (a-moll, ор. 42, D-dur, op. 53, B-dur и с-moll); «действующие лица» – советские пианисты С. Рихтер и В. Софроницкий и зарубежные – А. Шнабель и В. Кемпф. Мне показались их трактовки наиболее характерными и типическими. Поэтому выбор пал именно на этих крупнейших исполнителей. Оговорю только, что в суждениях о Рихтере и Кемпфе я основывалась на нескольких записях, а о Софроницком и Шнабеле лишь на одной (Соната B-dur), правда, весьма примечательной.
С. Рихтер играет, строго соблюдая все авторские указания и не отступая от текста ни на шаг. Будто следует заветам самого Шуберта, по свидетельствам современников, строжайшим образом придерживавшегося одного темпа, «помимо тех немногих случаев, в которых он письменно совершенно ясно обозначил: ritardado, morendo, accelerando и т. п. ...он никогда не допускал пылкого выражения в исполнении – вспоминает Л. Зонлейтнер,– ...поэт, композитор и певец (пианист – М Н.) должны понимать песню лирически, а не драматически...»5.
Рихтер трактует музыку сонат четко, ясно. Он склонен прочесть форму как цельный монолит. Нет стремления к детализации красок и особо тонкой нюансировке, мягко-певучие эпизоды – чаще всего именно эпизоды. Больше склонен выделить ораторски-декламационные фрагменты, а внезапные контрасты-вспышки (f и р) по принципу subito вписывает в музыкальную речь как
вопросо-ответ. Доминанта в решении Рихтера – размах, масштабность высказывания, что рождает временами аналогии с бетховенским героическим пафосом, а в других случаях, с брамсовской величественностью.
Главная сила пианиста – в ощущении музыкальной ткани сонат как цельного художественного организма, точнее – эпического полотна. Оригинальность его подхода к шубертовским циклам прежде всего и больше всего в том, что всякий раз Рихтер предлагает слушателям своеобразную концепцию; интересам этой концепции и подчиняется игра интерпретатора. Вот два красноречивых примера.
Соната c-moll. Трактовка эпико-повествовательная. И лирические, и драматические эпизоды не нарушают общей объективности тона. В рамках эпоса много красок, но они наносятся крупным фресковым штрихом. Первая часть играется вначале в стиле бетховенских увертюр, с подчеркиванием мужественно-героического тона скандированием каждого аккорда, стремительной взлетностью гаммообразных последовательностей. Однако характер музыки уравновешивается лирикой спокойно-благородного плана, предельно сдержанной.
Пианист строго дифференцирует основной голос и сопровождение, следуя традиции шубертовской песенности. С другой же стороны, этой песенности придан чисто инструментальный «отстраненный» характер. Как в истинно эпической композиции, Рихтер скрепляет целое сонаты, будто напоминая время от времени сходные образно-сюжетные мотивы. Благодаря тому, что лирические фрагменты, фантастико-сказочные куски на протяжении всей сонаты «корреспондируют» друг с другом, это большое полотно словно сжимается во времени, становится компактнее. Так, во второй части перед нами вновь песенность инструментального оттенка. Пианист играет открытым звуком, почти что осязаемо. Может быть, желая подчеркнуть простодушный тон высказывания? Или намеренную объективность манеры? Лишь на мгновенье Рихтер позволил себе личную интонацию в проникновеннейшем As-dur'ном завершении части, изобилующем красочными отклонениями, тонкими динамико-гармоническими сменами! Но в общем контексте цикла и этот эпизод воспринимается только как одна из красок эпического полотна.
Фантастично-таинственная образность впервые появляется в разработке первой части. Поначалу разработка кажется возбужденной, насыщенной постоянным подспудным драматизмом. Но «подземный» гул господствующей тут пассажной техники придает этой драматической возбужденности сказочный характер. Рихтер словно перекидывает арку между призрачно-загадочным эпизодом разработки (D-dur) через заключение части (c-moll) к образному кругу финала. Живой и лукавый менуэт пианист выдерживает в умеренной динамико-звуковой гамме. И эта умеренность, и скромные размеры части позволяют воспринимать музыку как ступень к завершающей части цикла – исполнительской вершине Рихтера в сонате.
Рефрен в венчающем сочинение Allegro будто символизирует процесс жизненного круговращения либо воспроизводит музыку карнавала, только не реального, а данного в ретроспективе. Вновь перед слушателем знакомые образы – то настораживающе драматичные, то сходные с грациозным танцем, то проникнутые благородной лирикой. Однако показаны они как бы через ажурный дымчатый занавес. В финале Рихтер поистине феноменально оперирует ровным по динамике звуковым пластом, раскрывает всепронизывающую тематичность шубертовской музыкальной ткани. Логика мысли потрясающая – большое дыхание объединяет в единое целое крупные куски. Общий план исполнительской концепции сонаты: пианист постепенно как бы уводит слушателя от полнокровной реальности образов в мир воспоминаний о них; оттого под его пальцами эти образы в финале приобретают более утонченно-изысканный облик, почти что ирреальный. Зыбкость, прозрачная легкость звучания (при этом ритм безукоризнен!) последней части рождает ассоциации с шопеновской кружевной фигуративной техникой. Однако не дает ли возможность карнавальный, чуть ли не фантасмагорический оттенок финала трактовать возникающие в сонате аналогии и с Шопеном, и с Бетховеном, и с Брамсом (в монументальной звонкости фрагментов крупной техники) как прием – в нашем восприятии мелькают портреты предшественников и преемников Шуберта или их «маски», встретившиеся на карнавальном празднестве?
Соната D-dur, op. 53 у Рихтера по-юношески радостная, задорная, в его исполнении ощущается молодость взгляда (может быть, даже полетность мысли?). Первую часть он играет быстрее, чем другие пианисты. Порой возникает ощущение моторности, временами механистичности движения, лирические фрагменты пронизаны объективным тоном. Музыка в трактовке Рихтера выпукла по тембровой палитре. Пианист даже подчеркивает здесь конкретно-зримые ассоциации, в частности с блестящими фанфарами охоты.
Во второй части более всего хороши вариации, особенно в ритмическом отношении. Здесь прекрасно соблюдается грань между внешней квазиимпровизационностью метроритма и реальной точностью, четкостью воспроизведения шубертовских рисунков. Особенно выделяется вариация с изобретательными линиями в верхнем и нижних голосах, разными, но равно значительными, где пианист не только идеально претворяет ритмическую полифонию, но мастерски сопоставляет разные регистровые и звуковые уровни. Во второй части обращаешь внимание на всякую тональную смену, малейшие rubato, так как в данном исполнительском контексте они сильно заметны и чрезвычайно выразительны.
Scherco врывается «сорванцом», звучит игриво, с озорством, молодцевато-залихватски подчеркнуты акценты. В хорального склада trio прослушивается ровный пласт всей фактуры. Музыка эта несет в себе какую-то сладостную тайну.
Финал выдержан в непосредственном, безыскусственно-добродушном тоне, а вспышки драматизма воспринимаются, как детские гримасы. Этот финал Рихтер играет будто руководствуясь шумановским восприятием: «Последняя часть в достаточной степени забавна. Если бы кто вздумал принимать ее всерьез, оказался бы в смешном положении. Флорестан называет это сатирой на плейль-вангаловский стиль ночного колпака (символ немецкого филистерства.– М. Н.). Эвсебий находит в сильных и контрастных местах гримасы, которыми обычно пугают детей. И то, и другое сводится к юмору»6.
С особым блеском, мягкой ироничностью преподносит Рихтер самое завершение цикла – коду. Подобно карусели «крутится» музыка, опираясь на варьирование одного и того же мотива; звуковая ткань сначала предельно облегчается (leggiermente), становясь как бы бесплотной, потом темп внезапно замедляется, словно испортился механизм вращения, и постепенно музыка истаивает. Видно, по замыслу интерпретатора, эта кода призвана снять серьезность и как бы протяженность всего предыдущего и перевести повествование в план шутки. Оглядываясь на целое, замечаешь, что Рихтер в трактовке сонаты идет от более обобщенного взгляда первой части к конкретизации и индивидуализации его в трех других частях, сохраняя при этом везде юношеский задор и свежесть восприятия.
-----------------------
Итак, из рассмотренных исполнительских вариантов наиболее принципиальные трактовки находим у Рихтера и Кемпфа.
Рихтер силен прежде всего ощущением целого. Очень интересно следить каждый раз за рождением его замысла, угадывать, ощущать те идейно-художественные принципы, которые лежат в основе его концепций, которые и скрепляют целое. Рихтер чаще всего в первой части выявляет ростки будущих образных доминант и в других частях их раскрывает. Особое внимание уделяет пианист кодам. Именно здесь он переводит эпическое или лирико-эпическое повествование в юмористический план, как бы снимая таким образом длину предыдущего развития. Правда, иногда возникает некоторое сомнение: не слишком ли концептуально интерпретирует Рихтер Шуберта, не затмевают ли интересы конструкции заботы об истинно шубертовской непосредственности в тоне высказывания? Строгость в прочтении авторского текста – признак высокого профессионализма. Но порой кажется, что строгость целиком овладевает областью звука и на его красочной палитре недостает «вокальности», утонченных нюансов романтической эмоциональной гаммы. В таких случаях в исполнительской манере чувствуется даже определенная декларативность, иногда чрезмерная. Впрочем, это воля интерпретатора и она подчиняет вас себе и чаще всего убеждает: Рихтер стремится в первую очередь в трактовке музыки сонат передать объективное начало.
(Когда я пишу эти строки, мысль все время возвращается к сольным концертам Рихтера осенью 1976 года. Интересно, как сейчас бы он сыграл Шуберта? Шопен во всяком случае был у него совсем иной, чем обычно. Никогда с такой силой не ощущалось, что Рихтер – истинный ученик Г. Нейгауза, признанного одним из лучших интерпретаторов великого польского мастера. Какой чарующий звук, какая эмоциональная амплитуда, какая щедрость динамических оттенков; Шопен и камерно-интимный, и героико-драматический! Стиль прочтения музыки абсолютно раскован, образно-эмоциональные переходы естественны до удивления, лавирование звуковыми манерами потрясающее. После такого исполнения еще раз поражаешься тому, насколько в другом облике предстает пианист в записи шубертовских сонат, осуществленных, правда, значительно раньше...)
------------------------------------------------------------------
1 Роберт Шуман. О музыке и музыкантах, т.I, М., 1975, с.233.
2 Роберт Шуман. О музыке и музыкантах, т.I, М., 1975, с.197.
3 Роберт Шуман. Письма, т.I, М., 1970, с.94.
4 Б.В.Асафьев. Шуберт и современность. Избр. Труды, т.IV, М., 1955, с.407, 408.
5 «Воспоминания о Шуберте». М., 1964, с. 122.
6 Роберт Шуман. О музыке и музыкантах, т.I, М., 1975, с.233.

В.Тимохин.
«Музыкальная жизнь», 1977, №23.
Высокая гармония
Наверное, не было такого любителя вокального искусства, который бы в начале октября не мечтал побывать на концертах в зале имени Чайковского, где выступал уникальный художественный ансамбль нашего времени: Дитрих Фишер-Дискау – Святослав Рихтер. Сочетание этих имен сулило слушателям незабываемые переживания. Поразительное по чуткости и филигранной отделке деталей искусство Рихтера-ансамблиста нам хорошо знакомо по его совместным выступлениям с Давидом Ойстрахом и Олегом Каганом. Кроме того, в памяти многих очевидцев остались и удивительные вечера, когда знаменитый пианист выступал с певицей Н. Л. Дорлиак.
Хотя Фишер-Дискау приехал в нашу страну впервые, любители музыки были достаточно хорошо знакомы с его исполнительским искусством по многочисленным записям, в том числе по оперным комплектам и сольным программам, выпущенным Всесоюзной фирмой «Мелодия». Можно смело сказать, что сравнительно немногих выдающихся современных певцов мы смогли столь хорошо изучить по записям (благодаря необычайной обширности дискографии), как Фишера-Дискау. Его трактовки песен Шуберта, Брамса, Гуго Вольфа, Малера, Рихарда Штрауса, Дебюсси, Равеля, произведений Баха, некоторых оперных партий – Папагено в «Волшебной флейте», Дон-Жуана в одноименной опере Моцарта, Вольфрама в «Тангейзере» Вагнера, Воццека в опере Альбана Берга врезались в память как явления поистине необыкновенные не только по совершенству исполнения, но и по глубине, философской, психологической тонкости осмысления художественного образа. Слова «певец», «исполиитель» сове р ш е н н о неспособны передать сущность его артистической личности. Это музыкант-мыслитель, музыкант-философ, для которого певческий голос – богатого внутреннего мира.
Святослав Рихтер впервые услышал Фишера-Дискау на Байрейтском фестивале в партии Вольфрама. «Слушать такого певца – огромное счастье», – говорил впо- следствии прославленный пианист. И в том, что они стали выступать вместе на концертной эстраде, есть своя закономерность. Рихтера и Фишера-Дискау, несмотря на все различие их художественных индивидуальностей, роднит концепционность мышления, масштабность, философская значительность замысла. Ансамбль этот впервые предстал перед публикой летом 1967 года на музыкальном фестивале во французском городе Туре, а затем выступал в Австрии, ФРГ, Венгрии, и каждое выступление выдающихся музыкантов вызывало огромный художественный резонанс. Искусство этого вдохновенного дуэта запечатлено в записи: две программы замечательных артистов знакомы нашим любителям музыки по пластинкам – вокальный цикл Брамса «Прекрасная Магелона» и песни Гуго Вольфа на стихи Мёрике (последние были записаны во время концерта в Инсбруке).
И вот, наконец, очное знакомство. Два незабываемых вечера – песни Шуберта и Гуго Вольфа... Когда готовишься к встрече с искусством артиста, хорошо знакомого по записям, невольно думаешь о том, насколько впечатления от живого голоса певца, исполнительской манеры будут соответствовать уже сложившемуся представлению о его художественном облике. Полностью ли подтвердится оно или придется вносить определенные коррективы? Вопросы эти встают у современного слушателя неизбежно, и если говорить откровенно, то отнюдь не всегда артисту в условиях концертного зала удается подтвердить tу высокую репутацию, которой пользуются его записи.
В случае с Фишером-Дискау совпадение ожидаемого и реального оказалось полным. Лишь только прозвучали первые фразы песни «Погруженный», которой открылась программа шубертовского вечера, как сразу стало ясно – все, что мы ожидали услышать от Фишера-Дискау, мы услышим. Незабываемый тембр голоса певца, фантастическое богатство тембровых красок, которыми он расцвечивает каждое спетое слово, предельная простота, искренность исполнительской манеры, тончайшая художественная культура – все это, столь знакомое по записям, теперь являлось нам во плоти, рождалось на наших глазах и от того становилось еще более прекрасным, полнокровным...
Для шубертовской программы Фишер-Дискау и Рихтер выбрали малоизвестные произведения композитора, крайне редко звучащие на концертной эстраде. Можно напомнить в этой связи, что в репертуар выдающегося немецкого певца входят все песни Шуберта (их более 600), которые записаны им на грампластинки (Фишер-Дискау является также автором книги, посвященной вопросам интерпретации песенных циклов Шуберта). Часто случается, что незнакомая программа не позволяет слушателю в достаточно полной степени оценить достоинства интерпретации из-за отсутствия укоренившихся исполнительских традиций. Однако, слушая шубертовскую программу Фишера-Дискау и Рихтера (из восемнадцати песен «официальной» части концерта лишь две песни мне, например, приходилось слышать у других певцов), едва ли кто мог пожалеть об ее «непопулярности». В каждой фразе вокальной и фортепианной партии словно оживала перед нами трепетная, возвышенная и благородная душа композитора.
Если говорить о самом сильном впечатлении от концертов Фишера-Дискау и Рихтера, то это прежде всего поразительная естественность и непринужденность исполнительской манеры. Таких вокальных вечеров нам еще не приходилось слышать. Искусство Фишера-Дискау позволяет очень ясно постигнуть самую сущность понятия «камерное исполнительство», в данном случае
«Liederabend» («Вечер песни»). Это удивительная эмоциональная раскрепощенность, абсолютная художественная свобода певца, который вышел на сцену с единственной целью – поделиться со слушателями своими мыслями по поводу исполняемого произведения. Для него это не «чужая» музыка, написанная полтора столетия назад, а бесконечно близкое, дорогое ему сочинение, которое создано, кажется, именно для него и которое он впервые выносит на суд слушателей. Это ощущение полного растворения исполнителя в музыке оставляло совершенно незабываемое впечатление. Никакой натянутости, скованности в поведении артиста на концертной эстраде, никаких стандартных жестов. Фишер-Дискау держится на сцене, я бы сказал, даже непривычно раскованно для классического исполнителя, он может облокотиться на рояль, встать вполоборота к аудитории, сделать несколько шагов вперед по направлению к рампе, – и все это было естественным состоянием человека, увлеченно рассказывающего своим слушателям о том, что его глубоко захватывает и волнует. Атмосфера духовной близости, особой доверительности между исполнителями и публикой безраздельно царила в этот вечер, и такое ощущение можно испытать только находясь в зрительном зале; любая запись, даже самая совершенная, здесь бессильна. Вот так же, наверное, Иоганн-Микаэль Фогль, друг Шуберта, пел в небольшом кругу почитателей и знакомых композитора его песни. Потом, когда камерные вечера стали даваться в больших концертных залах, эта первозданная интимность художественной атмосферы оказалась утерянной, и все же, когда приходится встречаться с настоящими мастерами жанра, то оказывается, что создать такое настроение можно и в зале на полторы – две тысячи мест...
Что же сказать об исполнительском искусстве знаменитого певца? Здесь, повторяю, все было знакомо и тем не менее снова и снова вызывало искреннее восхищение. Артист был в блестящей вокальной форме. Голос его, как известно, не отличается особой силой, однако приятно было убедиться, что он легко наполняет зал и звучит очень ровно, насыщенно и ярко на протяжении всего диапазона, пленяя мягкой бархатистостью и ласковой теплотой тона в среднем регистре, удивительно полетными, эфирными, истаивающими пианиссимо. Динамическая нюансировка Фишера-Дискау просто потрясает. Кстати, об этой стороне искусства артиста запись также может дать только приблизительное представление. Такого богатства оттенков динамики, как на шубертовском концерте, нам вообще не приходилось слышать. И что примечательно: forte, piano, mezza voce у Фишера-Дискау – это не какой-то один, так сказать, статичный оттенок; каждый из них включает в себя множество градаций, которыми певец пользуется с поистине виртуозной щедростью.
Песни Шуберта предстали у певца и пианиста лирическими новеллами, покоряющими удивительной искренностью и глубиной переживания. Эмоциональная палитра красок в искусстве Фишера-Дискау и Рихтера необычайно многомерна. Дело не только в том, что в каждой песне они создавали потрясающий по своей художественной рельефности образ – сами эти образы, казалось, вместили в себя все богатство человеческих чувств и настроений, весь наш эмоциональный мир. Оба артиста поистине универсальные художники. Им равно близки лирическое, героическое, драматическое или живописно-пасторальное начало в музыке. Каждая песня Шуберта представала в их исполнении шедевром, полным огромной выразительной силы и художественной фантазии. Сколько поэтической проникновенности было в его трактовке песни «Весной», сколько скорбной задумчивости – в «Вечерних картинах», сколько энергии и радостного упоения – в песне «Моряк», сколько тонкой характерности, мягкой ироничности – в «Подслушанной серенаде»! Потрясающе прозвучала песня Шуберта «Тоска могильщика» (стихи Крайгера), явив воображению слушателей прямо-таки фантастическую картину погружения героя в небытие...
Не могу специально не остановиться на песнях Шуберта, исполненных сверх программы, среди которых буквально заворожили аудиторию «Ночные фиалки», «Ночь и грезы» и «Прощание» из вокального цикла «Лебединая песня». Это была высшая гармония поэзии, музыки и человеческого голоса, способного выразить сокровенные мысли композитора и поэта...
Ансамбль Фишер-Дискау – Рихтер покорял не только единством художественных намерений певца и пианиста, идеальной слитностью звучания голоса и фортепиано, но и единством дыхания, эмоциональной пульсации. Было ощущение рождения музыки на наших глазах. Звучание рояля Рихтера то «обволакивало» голос Фишера-Дискау, то по-своему окрашивало его, как бы высветляло или, наоборот, делало его более «матовым», «темным». Может быть, никогда еще колористическое богатство фортепианной партии в песнях Шуберта не представало в таком изумительном великолепии, как в этот вечер.
Песни Гуго Вольфа отличны от шубертовских по своему духу, характеру, мелодическому языку. Здесь господствует ярко выраженное декламационное начало. В особенности это относится к песням на стихи Гёте, которые составили программу второго вечера Фишера-Дискау и Рихтера. Вокальная и фортепианная партии в этих песнях совершенно равноправны, подчас независимы друг от друга и создают то единое, цельное здание, в котором все компоненты сцементированы, нерасторжимы. Фишер-Дискау и Рихтер составили такой ансамбль, равного которому трудно сыскать во всей истории мирового исполнительского искусства. Каждый его участник создавал единое художественное здание, вкладывая в него все свое колоссальное мастерство. Игру Рихтера можно было назвать титанической, он порой превращал свой инструмент в настоящий оркестр, потрясая слушателей драматическим накалом и экспрессией исполнения. Фишер-Дискау каждую песню превращал в монолог, звуковую фреску, картину, поражая богатством эмоциональной нюансировки. В его декламации были и вагнеровская мощь (как в песне «Прометей» – на мой взгляд, кульминации всего вечера), и лирическая, скорбная углубленность («Три песни арфиста»), и эпическая величавость («Границы человечества»), и тончайшая, акварельная звукопись («Могила Анакреона»). И Рихтер своей игрой еще ярче расцвечивал эмоциональную ткань произведений Гуго Вольфа в поразительном единстве с художественным замыслом певца. Была в исполнении великих артистов какая-то магическая сила взаимопроникновения, которая позволяет говорить о высшей форме художественного сотрудничества на концертной эстраде, когда для слушателя не существует певца и пианиста, а есть только музыка, рожденная в едином порыве вдохновения. Это счастливый удел – быть очевидцем таких выступлений. Можно с уверенностью сказать, что каждый, кто слушал эти концерты, сохранит память о них на всю жизнь.
В. ТИМОХИН
Фото А.Степанова

С.Яковенко.
«Советская музыка», 1978, №3.
ДИТРИХ ФИШЕР-ДИСКАУ – СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
Писать о концертах Фишера-Дискау и Святослава Рихтера1 оценивать работу музыкантов такого масштаба непросто и чрезвычайно ответственно – ведь только с высокой точки открываются их творческие замыслы и достижения. Но в данном случае задача усложняется еще и тем, что Фишер-Дискау, будучи ярчайшим представителем определенного направления в вокальном исполнительстве, соединяет в себе певца, художника, мыслителя, что встречается очень редко. И как раз осмысление этого феномена, анализ его составляющих и есть наибольшая трудность для рецензента.
В кругу широких и разнообразных художественных интересов Фишера вокальная камерная музыка, а в ней немецкая романтическая песня занимает главное место. Именно в этом жанре им созданы эталонные, хрестоматийные исполнительские образцы. По пластинкам и радиопередачам (кстати, именно радио обязан музыкант началу своей широкой популярности – первое же исполнение им в 1947 году шубертовского цикла «Зимний путь» принесло ему европейскую известность) мы довольно хорошо знакомы со всеми этапами творческого пути художника, но его совместных записей с Рихтером доводилось слышать немного. И вот музыканты на эстраде...
Прежде всего у нас, очевидно, как у всех, сидящих в концертном зале, постепенно возникало и крепло ощущение, что поет и играет один человек. Это двуединство в какой-то момент перестало даже удивлять и восхищать; высшее достижение ансамбля – слияние замыслов и их звуковой реализации – стало восприниматься как вполне естественное, само собой разумеющееся, хотя каждый из слушателей вряд ли имел счастье хотя бы несколько раз в жизни пережить подобное. Безукоризненно слиться с Рихтером в подлинно инструментальном ансамбле! Каким же масштабом дарования должен обладать для этого музыкант! Конечно, журнальная рецензия не может заменить живого впечатления от общения с музыкантами, передать атмосферу этих поистине незабываемых вечеров. Цель нашей статьи – запечатлеть непосредственный эмоциональный отклик слушателя, рассказать о тех мыслях и чувствах, которые рождались по ходу концертов, где не было мелочей, не было ничего незначительного. Штрих за штрихом прибавлял к портрету ансамбля каждый романс...
Итак, вечер первый. В программе песни Франца Шуберта. Первое отделение.
«Погруженный». Показалось что исполнителям нужно какое-то время, чтобы приспособиться к нелегкой акустике Зала имени Чайковского, дифференцировать звуковую градацию. Очевидно, желая лучше услышать себя, Фишер-Дискау поначалу несколько форсировал подачу дыхания, в результате чего создалось впечатление некоторой расплывчатости, несфокусированности звучания. Параллельно, наверное, шел и процесс настройки слушателей на нужную волну, возникали невидимые нити, связывавшие их с исполнителями в одно целое.
«Достояние певца». Процесс технической «настройки» позади, и теперь уже ничто не мешает ни артистам, ни слушателям полностью погрузиться в музыкальные образы. Поражает необыкновенная широта динамической амплитуды звучания. Финал романса, спетый чуть слышно, как бы полудремотным шепотом, вызвал заинтересованную, чуткую ответную тишину зала – сигнал того,- что высокое искусство исполнителей аудитория способна так же высоко воспринимать, а это необычайно дорогое и необходимое условие всякого камерного концерта.
«Грусть». Удивляет, радует свежий, молодой голос Фишера-Дискау. Нет и намека на излишнее vibrato, свойственное почти всем певцам с большим стажем. Мастерство владения piano-pianissimo, присущее лучшим представителям немецкой вокальной школы (вспомним хотя бы Петера Шрайера, Тео Адама, Германа Прея), доведено у Фишера-Дискау до совершенства.
«Поток». Здесь особенно ярко высветились качества Святослава Рихтера – ансамблиста экстракласса. Мятежный дух произведения, драматически насыщенный характер фортепианной партии, казалось, позволяли музыканту, обладающему таким могучим творческим темпераментом, значительно раздвинуть звуковые рамки. Но высшим интересам ансамбля, безукоризненному ощущению стиля немецкой романтической Lied пианист не изменил ни разу. При огромной внутренней наполненности звучания тембр фортепиано ни здесь, ни в других произведениях двухчасовой программы не заглушил ни одного слова, ни одного слога у певца.
«Погребальный колокол». Исполнительский план основан на противопоставлении изобразительной и духовной сфер: похоронного звона и рожденного им тихого размышления. Музыкантам удалось найти для воплощения этих образов полярные тембры. Пластично и совершенно прозвучали моменты «передачи эстафеты» от голоса к фортепиано, словно отвечавшего певцу, договаривавшего его мысли-фразы. Присутствие инструментального начала в звуковедении Фишера и «очеловеченное» звучание рихтеровского рояля как раз и создавали ощущение того нерасторжимого тембрового единства, о котором говорилось выше.
«Вечерние картины». Певец убедительно опровергает бытующее представление о немецком языке как о якобы трудном, неудобном для пения. Великолепны его музыкальное слово, отточенная до совершенства дикция.
«На Дунае». Снова широкий диапазон красок, богатая звуковая амплитуда внутри одного произведения. В экспозиции – ярко, полнокровно, красиво льющийся в среднем и низком регистрах голос, поддержанный соответствующим плотным звучанием фортепиано. Но затем начинается звуковое колдовство, слышатся какие-то волшебные шелесты, переливы, отклики. Про такое в вокальной среде говорят обычно: «снято с дыхания, спето не на опоре». То есть неправильно? Но почему же испытываешь несказанную художественную радость, слушая это «неправильное» pianissimo?
«Моряк». Характерность, мужественность и даже грубоватость в произнесении слов, жесткость звучания как нельзя лучше способствуют передаче запечатленной в музыке нелегкой, но радостной борьбы со стихией.
«Тоска могильщика». Мы захвачены зримостью картины тяжелого физического труда. Для этого найден звук емкий, объемный, «трудный», и, как антитеза, – внутренний монолог, произнесенный сосредоточенно, глубоким тихим голосом (речь идет не о голосе певца, а о слитом воедино голосе двух созвучных «инструментов») постепенно затухающим, воспаряющим.
Окончено первое отделение концерта. Можно перевести дух, попытаться осмыслить масштабы услышанного. Многие в зале остаются в антракте на своих местах, будучи не в силах освободиться от «колдовских чар», не желая расплескать ни единой капли драгоценных впечатлений... Когда-то А.Н.Серов, говоря о магическом обаянии исполнения М.И.Глинкой собственных романсов, сетовал: «К сожалению – на горе искусства – на свете еще не придумано средства «фиксировать» все оттенки игры актера или исполнения музыкального»2. Что ж, мы в этом смысле значительно счастливее, имея и звуко- и видеозапись, которые дают представление об игре актеров и музыкальном исполнении. Но тот самый «магнетизм обаяния», о котором писал Серов, вряд ли передали бы и фонограмма, и магнитофильм. Сколько же «излучений», воспринимаемых при живом общении с Рихтером и Фишером (которые отнюдь не обойдены вниманием фирм грамзаписи), не слышим мы в механическом воспроизведении. «За кадром» остается что-то очень важное и дорогое; и настроение такого концерта, его атмосферу способен, быть может, передать скорее талантливый писатель, нежели бесстрастная механическая запись.
Но как ни заманчиво остаться в сфере чисто эмоционального восприятия, как ни покажется кощунственным в данном случае поверять гармонию алгеброй, постигнуть источники этого чуда невозможно, не поразмыслив над таким прозаическим вопросом, как «техническая форма исполнителя». Этот базис, на котором зиждутся самые высокие музыкантские идеи и который позволяет художникам «иметь под рукой» все необходимые в данный момент краски, профессионально совершенен у обоих партнеров.
В многочисленных книгах и статьях достаточно подробно анализируются различные аспекты искусства Рихтера. Литературы же о Фишере-Дискау на русском языке немного. А жаль.
Такое явление в истории музыкального исполнительства заслуживает, на наш взгляд, не менее пристального анализа и изучения, чем, например, искусство некоторых звезд итальянского bel canto, все аспекты жизни и деятельности которых освещаются подчас даже слишком подробно.
Пока же, в ожидании появления книги о Фишере-Дискау, разностороннем музыканте, певце и дирижере, ученом, авторе философских и музыковедческих трудов, выскажем некоторые соображения о его вокальной работе. Певец, на наш взгляд, как бы переплавил в единое целое принципы немецкой и итальянской вокальных школ (известно, что Фишер в течение продолжительного времени брал уроки у итальянских маэстро). Мягкость и эластичность звучания, отсутствие гсолового призвука, глубокое дыхание, выровненность регистров голоса – все эти черты, свойственные лучшим итальянским мастерам, присущи и вокальной манере Фишера-Дискау. Прибавьте к этому бесконечные градации в произнесении слова, инструментальность звуковедения, мастерское владение pianissimo, и мы получим почти идеальную модель, пригодную для исполнения и оперной музыки (вспомним хотя бы участие Фишера-Дискау в операх Моцарта, Вагнера – в Байрейте и других городах, его незабываемого Воццека, наконец, о том, что европейская пресса назвала его «лучшим Фальстафом XX века»), и камерной, и кантатно-ораториальной. Феноменальная музыкальность, интеллект Фишера могут проявляться в полной мере в его искусстве лишь потому, что они опираются на отточенное вокальное мастерство. Безукоризненное претворение в «звучащую материю» художественных замыслов, достижение невиданных ансамблевых высот стали возможными лишь благодаря блестящей технической форме обоих участников ансамбля, а значит, их неустанному, кропотливейшему труду.
Какие же штрихи к портрету ансамбля прибавились при дальнейшем слушании? Второе отделение.
«Птицы». Произошло еще одно чудо, а их в этот вечер нам довелось пережить немало. Музыкантам удалось найти парящий, почти бесплотный звук. Воздушные, легчайшие фразы создавали светлую картину высокого радостного полета.
«У окна». Возникает резкий контраст предыдущим образам. Мы погружены в настроения печали и одиночества, глубокой сосредоточенности и скорби. Но здесь, как и в других драматических песнях, художники избегают сентиментальной расслабленности, предпочитая ей мужественность и строгость.
«Звезды». В этом романсе торжествуют мудрость и покой, которые приходят к большим художникам с годами. Не тот нарочитый интеллектуализм, чреватый аэмоциональностью и академической сухостью, а подлинная глубина, рожденная убежденностью и знанием Мастера.
«Напев рыбака». Снова яркий контраст. Юношеская взволнованность, даже игривость. Песня эта, родная - сестра другого шубертовского шедевра – «Форели», пронизана светом, радостью. Но и в этой солнечной гамме Рихтер и Фишер находят множество звуковых градаций и оттенков.
«Подслушанная серенада». «Окутанный», притемненный тембр фортепиано и голоса создает атмосферу таинственного сумрака. Ночную прохладу мы ощущаем чуть ли не физически...
«Странник». Философская сосредоточенность и глубина передаются с помощью божественно ровной кантилены и затаенного pianissimo...
«В седле». Неудержимый, страстный порыв, вихревое движение. Произведение исполнено как бы на одном дыхании. Паузы столь же наполненны и одухотворенны, как и звучание музыки.
«Весной». Нежные грезы и сетования сменяются драматическими взрывами, и вновь возращается грустное настроение, подернутое дымкой воспоминаний. Возникают все новые и новые тембральные краски. Сколько же их мы услышали за сегодняшний вечер!.. .
«Из Гелиополиса». Бурные, мятущиеся образы проходят перед вами, и вот на такой напряженной драматической ноте заканчивается программа концерта, словно перекидывается мостик к следующей, вольфовской.
На «бис» артисты исполняли еще целое отделение, показавшее, что они обладают неиссякаемым запасом творческой энергии. Каждый романс звучал, казалось, лучше предыдущего, и последние, услышанные нами з этот вечер,– «Ночь и грезы», а также «Отъезд» из вокального цикла «Лебединая песня» – поразили едва ли не больше всего.
Думается, что нет нужды столь же подробно анализировать и вторую, вольфовскую программу. Все открытия, сделанные нами в первый вечер в отношении совершенства ансамбля, психологической обоснованности, углубленности художественных замыслов, многокрасочности звуковой гаммы, динамических контрастов и так далее, лишь еще более подтвердились, получив новое, убедительное творческое обоснование. Но выявились и иные исполнительские грани, связанные с иным характером музыки, и на них хотелось бы указать.
В течение двух вечеров Фишер и Рихтер высветили разные полюсы немецкой романтической Lied, интерпретируя творчество ярчайших представителей периода ее расцвета и заката. Полная глубоких внутренних противоречий музыка Гуго Вольфа с ее изломанной, порой изощренной мелодической линией, жестким и терпким гармоническим языком, с ее разнообразным колоритом, то мрачным и суровым, то вдруг озаряемым пронзительно-красивыми просветлениями, находится как бы на стыке двух художественных эпох. (Вспомним о том, что творческий расцвет композиторов нововенской школы хронологически примыкает к периоду жизни и деятельности Вольфа и Малера.)
И если в первый, шубертовский вечер программа была исполнена в сугубо камерном ключе и поражала прежде всего обилием красок и оттенков, пристальным вниманием художников к деталям, тончайшим мастерством светотени, то во второй вечер, когда звучала музыка Вольфа, бушевали недюжинные, глобальные страсти. Если попытаться,конечно, с большой степенью условности, сформулировать сверхзадачу шубертовской программы, то ее можно определить как теплое и искреннее, интимно-доверительное высказывание, то оживляемое жанровыми сценками, то сменяющееся печальными раздумьями.
Музыка же Вольфа потребовала от исполнителей, с одной стороны, аскетической строгости, сосредоточенности, интеллектуализма, с другой – выявления скрытых ресурсов эмоций, большого звукового размаха. И вот перед нами развертывается такое грандиозное создание, как «Границы человечества» (стихи Гёте), звучащее истово, поистине могуче... Или «Прометей» (стихи Гёте) с его трагедийными страстями, трактуемый певцом как оперный монолог, когда голос гремит, словно становится крупным, объемным, скульптурным, а рояль уподобляется оркестру... .
На этом концерте мы еще раз имели возможность убедиться в том, что- Фишер-Дискау очень часто трактует голос, как особого рода инструмент. Не говоря об идеальнейшей интонации и ровности звуковедения, такой подход к пению позволяет находить множество инструментальных красок, и кажется, мы слышим то флейту, то виолончель, то валторну, то скрипку...
Зал постоянно ощущал с помощью импульсов, посылаемых со сцены, что в артистах, строго следовавших букве и духу композиторского первоисточника, жило и ярчайшее созидательное начало. Невольно вспомнились в связи с этим рассуждения Валерия Брюсова, не. разделявшего художников на творцов и исполнителей, хоть одни оставляют «искусство пребывающее (permanent)», другие же должны вновь и вновь воссоздавать произведения своего искусства каждый раз, когда хотят сделать их доступными другим. Но в обоих случаях художник является творцом. «Артист на сцене то же, что и скульптор перед глыбой глины: он должен воплотить в осязательной форме такое же содержание, как скульптор, – порывы своей души, ее чувствования. Материалом пианисту служат звуки того инструмента, на котором он играет, певцу – его голос... То произведение, которое исполняет артист, служит формой для его собственного создания»3.
Именно с замечательными творцами встречались мы в эти незабываемые вечера и поняли, что их искусство питается не только незаурядным знанием музыкальных стилей, мастерством, талантом, интеллектом, но и глубоким взаимным уважением, абсолютным пониманием друг друга. Только на этой основе мог родиться и жить многие годы дуэт художников такого высокого масштаба.
Любители музыки после концертов поздравляли друг друга с праздником.
С. Яковенко
--------------------------------------------
1 3 и 5 октября 1977 года, Концертный зал имени Чайковского.
2 А. Н. Серов. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке. М.. 1951, с, 11.
3 Цит. По сб. В.Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы, ч.1, М., 1968, с. 126-127.
Б.Владимирский.
«Советская музыка», 1978, №4, фрагмент.
Наш друг пластинка
Запомнилась и запись С. Рихтером Седьмой сонаты С. Прокофьева в осенний день 1958 года в Большом зале консерватории. Запись осуществлял ныне покойный талантливейший звукорежиссер Д.Гаклин. Играл Рихтер, как всегда, увлеченно, как мне тогда казалось, исключительно проникновенно и вместе с тем с какой-то предельно прокофьевской ясностью. «Загвоздка» произошла с медленной частью сонаты. Каждый вариант пианист прослушивал и отклонял. Вероятно, на пятом или шестом из них я осмелился сказать, что не ощущаю существенной разницы между вариантами, что если они и отличаются чем-то друг от друга, то едва уловимо. Пианист возразил: «Да что Вы, разве Вы не слышите, что отсутствует главное – безмолвная (!) пустынность. Ведь телеграфные столбы там стоят сиротливо, с оборванными проводами...». Не ручаюсь за абсолютную точность слов, но смысл их мне хорошо запомнился. Сложный духовный мир произведения для великого интерпретатора становился как бы видимым.
Таких замечательных музыкантов, как В. Софроницкий, Э. Гилельс и С. Рихтер, нельзя, конечно, обвинять в микрофонобоязни. Трудности, возникающие при записи исполнителей столь высокого класса, – результат их исключительной взыскательности прежде всего к себе, результат, можно сказать, их глубокого уважения к грампластинке и, конечно, к тем людям, которые трудятся вместе с ними над ее созданием. Микрофон, как неумолимый судья, требует безукоризненной художнической честности и четкого технического воплощения виртуозных сторон произведения. Его ведь не обманешь.
Л.Гаккель.
«Советская музыка», 1978, №4.
РИХТЕР ИГРАЕТ ВОСЬМУЮ СОНАТУ
Артистическая деятельность Святослава Теофиловича Рихтера воплощает собою одно из высших завоеваний советской художественной культуры. Вехами здесь были, конечно, присвоения Рихтеру званий народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, награждение его Ленинской премией. Вехами становятся и творческие явления. Именно сейчас мы получаем возможность многое осознать у Рихтера в значении вех: за последние годы артист возвращается к ранее игранному, вновь – в спиральном движении – «обретает» сонаты Бетховена, Концерт Шумана, «Хорошо темперированный клавир» Баха. Есть одно сочинение, которому судьба позволила стать мерой вещей на 30-летнем пути Рихтера-пианиста, а, тем самым, и на пути советской пианистической культуры: это Восьмая соната Прокофьева. Впервые Рихтер сыграл сонату в 1945 году на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. В 60-е годы, примерно через пятнадцать лет после первого исполнения, вышла рихтеровская пластинка с записью Сонаты. А еще через десятилетие в эфире появилась запись сонаты по трансляции с московского концерта Рихтера (декабрь 1974 года).
Не внешним соблазном «равных расстояний» движимы мы, избирая Восьмую сонату у Рихтера предметом размышления. Для нас очевидна прежде всего эпохальная значимость Восьмой сонаты в советской фортепианной музыке: «монументальное сочинение, по форме близкое симфонии, полное глубоких философских обобщений» (Рихтер) – обобщений, добавим, внушенных трагическим и героическим бытием военных лет. Для нас очевидно значение Сонаты в артистической судьбе Рихтера: каждое ее исполнение – большое событие для пианиста, некоторые исполнения, в том числе в 1974 году, становятся новым словом; новым словом о Сонате, новым словом артиста о самом себе. Вокруг рихтеровской трактовки Восьмой сонаты в 1974 году видится, во всяком случае, целая область интерпретаций, целое поле звучаний, выставляющих Восьмую сонату 1974 года центром нового творческого этапа, апогеем нового творческого состояния. Частью такого поля сделались для нас прелюдии и фуги Шостаковича, сыгранные Рихтером в одной программе с Восьмой Прокофьева, недавняя интерпретация пианистом Тридцать второй сонаты Бетховена.
Разумеется, рихтеровское исполнение Восьмой сонаты обладает абсолютной художественной ценностью, позволим себе сказать – абсолютной красотой, и это еще одна побудительная причина думать и писать о нем. Наконец, нам понятно общественное значение такого события, как выступление Рихтера с Восьмой сонатой: дается толчок новому, лучшему пониманию советской музыкальной классики, еще сильнее становится ее этическая и эстетическая притягательность, яснее сознают процессы жизни ее в общественном восприятии и, тем самым, в исполнительском искусстве ’.
Не будем задерживаться на первом исполнении Рихтером Восьмой сонаты (Всесоюзный конкурс 1945 года). В записи оно не зафиксировано, отзывы критики о нем достаточно неопределенны (говорят о «проникновенно сыгранной» сонате – но что есть рихтеровская «проникновенность»?). Известно высказывание самого артиста о сонате, отнесенное им в мемуарном очерке «О Прокофьеве» к эпизоду Всесоюзного конкурса («Временами она как бы цепенеет, прислушиваясь к неумолимому ходу времени. Соната несколько тяжела для восприятия, но тяжела от богатства – как дерево, отягченное плодами»); это высказывание позднейшее, и оно вряд ли может быть ограничено пределами одной лишь ранней эпохи рихтеровского пианизма.
Возможность серьезного размышления и обоснованных оценок впервые предоставила нам рихтеровская грамзапись сонаты. Вот несколько наблюдений, вполне поддающихся проверке. Очень медленное Andante первой части – и темповая ровность музыки в этой части. Вместе с тем, известная агогическая свобода, особенно в лирической главной партии. Динамическая выровненность изложения. Фактура «гомофонизируется», верхний мелодический голос почти везде динамически акцентирован, в некоторых фрагментах звучание полностью ассоциируется с графикой (Andante разработки, тт. 5–7). Педаль экономнейшая, фигурационный материал дается без педали (начало разработки).
Главные партии в экспозиции и репризе существенно различны: в репризе звучание гуще, теплее, в экспозиции – отрешеннее, временами – второе проведение главной темы – оно словно совсем теряет материальность... Побочная же партия стойко сохраняет свой смысл и окраску, она везде задумчиво печальна. (Это едва ли «поддается проверке». Но возможность подобных ощущений есть, может быть, самое ценное из того, что дает нам рихтеровская запись сонаты.)
Динамически ровна, «гомофонизирована» вторая часть. Здесь все-таки изумишься решительному отказу Рихтера от красочности: реприза второй части представляет собою редкий в прокофьевской музыке случай многоплановой фактуры (прием «три руки»), а пианист никак не дифференцирует уровни звучания! Это говорит о рихтеровском слухе, рихтеровском звукоощущении, менее всего приверженных полихромности; их власть в данном случае сильнее, чем «верность тексту». В финале сонаты снова – динамическая выровненность, снова звуковая сплоченность полифонической фактуры и «высветленность» мелодического голоса. Рихтер поразительно сдержан в самые накаленные моменты музыки. Ничто не маркируется им в эпизоде Allegro ben marcato: мерно, полого, две-три динамические вспышки только подчеркивают ровность динамического рельефа и заставляют почти желать преувеличений, нажима, дабы не прошла мимо слушателя глубочайшая смысловая значимость этого эпизода (марш нашествия!). Большего драматического нажима ожидаешь и в эпизоде Pochissimo meno, и не знаешь, слушая, досадовать или радоваться оттого, что нажима этого у Рихтера нет. Столь же неуверенно внимаешь эпизоду Andantino: агогическая свобода игры необычно велика для Рихтера, никогда – ни до, ни после – не доводилось наблюдать у него таких колебаний темпа, такого «ощупью» продвижения мелодической линии, но по мерилам данного исполнения сонаты (финала особенно) все это слишком большая неожиданность для того, чтобы без смущения радоваться ей.
Пятнадцать лет назад соната в рихтеров ской записи производила на наш слух впечатление «сонаты-воспоминания». Она и сегодня в этой записи производит схожее впечатление. Но слух наш сегодня все-таки более тонкий, более искушенный, чем он был тогда. Сегодня отсутствие броских контрастов, драматического нажима мы воспринимаем как особый строй чувств, как сознательное желание устойчивости, как волю к достоинству: достоинству музыки, достоинству исполнителя-творца. Восьмая соната Прокофьева, сочинение тогда еще (пятнадцать лет назад) совсем короткой эстрадной жизни, трактовалась как классика, то есть нечто такое, что совершенством своей формы обеспечивает самосохраненеие2 и делает абсурдной возможность переоценок, переиначивания. Артистическая личность при этом реализуется в явлениях порядка, законченности, совершенного умения. Выдающееся произведение советской музыки не может не приобрести при этом оттенок «из прошлого» – этот оттенок можно при желании назвать эпическим, летописным.
Восьмая соната, сыгранная Рихтером в декабре 1974 года (запись по трансляции)... Сразу, с первой ноты, чувствуешь, что творческий тонус пианиста исключительно высок, что это тонус «нового слова». Потрясенный, захваченный, с трудом – и позже – осознаешь, чем именно внушено это чувство. В первой части – небыстрым, но решительным шагом главной партии, напряженным ее звучанием, напряженным и вместе с тем объемным, плотным. Фигурациями в разработке; это громовые раскаты, радостное пение побеждающих! Рихтер в последние годы нечасто позволял нам волноваться зрелищем самозабвенного артистизма, презирающего опасности, нечасто возвращал нас к образу молодых своих лет – «virtus», «мужественного». На пороге своего 60-летия он снова дал нам насладиться этим образом. Сколько яростной силы в gis-moll’ном фрагменте разработки, сколько силы и величия в кульминационном Andante – это набат, это голос огромной страны, встающей на битву! Кода: прорыв за пределы самой ослепительной виртуозности, захватывающий душу пианистический подвиг. Очищающее напряжение подвига – да позволено будет повторить наши слова о Рихтере 1956 года – дано и сегодня пережить переполненному концертному залу и многомиллионной аудитории радио!
Во второй части сонаты тонус артиста не меняется. Звуковой поток плотнее, гуще, чем это было в записи 60-х годов; многое из того, что могло бы постигаться как эпос, благодаря мерному течению времени, постигается в ключе сугубо психологическом благодаря острой напряженности звучания (таков, например, а-moll’ный фрагмент). И при этом, конечно, сохранено то, что и не может меняться, ибо это есть природные черты рихтеровской музыкальности: звуковая ткань ощущается как единство, как целостность; в полифонических фрагментах второй части пианист все играет словно «одной большой рукой», и в репризе у него все снова звучит слитно, хотя и напряженнее, звонче, чем в записи 60-х годов.
Финал – откровение пианиста. То, как он это играет, создает эпоху в истории советского фортепианного исполнительства. Духовное напряжение небывалое; звуковой реализм в передаче музыки, рожденной действительностью военных лет, – небывалый. Не будем описывать все. Довольно сказать об эпизоде Allegro ben marcato, репризе и коде. В эпизоде – неумолимое crescendo. Помноженное на режущий блеск звучности, оно заставляет пережить Des-dur этого эпизода как «Des-dur зла», неотделимый от военной темы в нашей музыке 40–50-х годов (назовем Des-dur вторых частей Восьмой и Десятой симфоний Шостаковича, его же Прелюдии и фуги № 15 из ор. 87). В какой-то миг рост напряжения кажется уже немыслимым. В следующий миг напряжение возрастает (гаммы precipitato – мгновенны и ярки, как молния). Эпизод Pochissimo meno: как и в ранней грамзаписи, здесь нет никакого драматического нажима, но о драме говорит самое качество звучания, звук пронизывающе острый (и негромкий). Мы бы сказали, что этот «предельный» звук воплощает высочайшее уважение артиста к музыке, которую он играет, воплощает собой чувство долга по отношению к эпохе, родившей эту музыку. «Предельность» артистического тонуса – этична, «предельность» – гражданственна!
Фрагмент Andantino: сдержаннее, чем в записи 60-х годов, но тоже достаточно психологично, интимно (неровный, изменчивый пульс музыки) – достаточно интимно для того, чтобы начало репризы, этот негромкий gis-moll’ный аккорд, возвращающий к «бегу времени», воспринимался как удар в сердце – Основной характер звучания в репризе – как и в экспозиции – звон или гул (если музыка уходит в низкий регистр и затеняется педалью). Звон, гул – битва! Исполнительский тонус то подымается, то снижается, ходит какая-то волна артистического темперамента, но здесь такое высокое brio, что, внимая Рихтеру, себя ощущаешь раскрепощенным, свободным, упивающимся счастьем действия!
И вот – кода. Гул колоколов, благовест. Гений композитора создал изумительный звуковой символ Победы. Гений исполнителя воссоздал этот символ для огромной слушательской аудитории. Ликование, самозабвение, полет к свету и радости – еще недавно нам казалось, что рихтеровское не в этом, в чем-то ином (воля к порядку, темперамент творца-организатора), но только этими словами – «полет», «самозабвение» – мы можем сейчас охарактеризовать Рихтера в коде финала прокофьевской Восьмой сонаты. Конечно, небездейственны ни воля, ни ум. Но в том-то и видим мы рихтеровское «новое слово», что явилась новая эмоциональность. В сравнении с нею импульсивная эмоциональность молодого Рихтера простодушна. Новая эмоциональность – опаляюще резкая, опаляюще властная в каждый миг протекания музыки, инструментом ее воздействия служит пронзительный рихтеровский звук. От слушателя эта новая эмоциональность требует – и добивается – самоотречения, но ведет слушателя, самоотреченного, на такие высоты переживания, где нет уже ничего, кроме радости, – ни боли, ни страдания.
Восьмая соната Прокофьева, это великое творение советской музыки, сама сказала «новое слово» устами Рихтера. Открылась эмоциональная широта сочинения. Ярче засияла его героичность. «Восьмая Прокофьева в исполнении Рихтера» – так именуем мы сегодня важный вклад советской духовной культуры в общечеловеческую духовную сокровищницу.
-----------------------------------------------------------------
1 Подобное событие стимулирует историю и теорию исполнительского искусства, исполнительскую критику, заставляет многое пересматривать как в общих положениях, так и в конкретных оценках.
2 Такое определение классики принадлежит известному французскому поэту Полю Валери

Статья Алексея Григорьевича Скавронского («Советская музыка», 1978 г., №9) о майских концертах Рихтера 78-го года, посвященных памяти Г.Г.Нейгауза. Помню свою зависть – по понятным причинам не мог слушать Рихтера в те дни, узнал о концертах от своей приятельницы, поехавшей на «майские» в Москву, а потом прочитал статью, которую сейчас предлагаю посетителям сайта.
РИХТЕРОВСКИЕ ШУБЕРТИАДЫ
Когда я начал писать эти заметки, на глаза попались строки Генриха Густавовича Нейгауза: «Москвичи часто жалуются, что Святослав Рихтер слишком редко играет в Москве. Когда ему говорят об этом, он достает тетради, в которых записаны все когда-либо сыгранные им концерты, и доказывает, что больше все-го он играет именно в Москве». В минувшем концертном сезоне (как бы в подтверждение этих слов) мы имели великое счастье слушать Рихтера — и не однажды, не уставая поражаться каждый раз его дивному умению быть всегда самим собой и в то же время изменяться до неузнаваемости. 2 и 3 мая, БЗК: Шуберт, Соната e-moll, Scherzo № 2 Des-dur, Пьеса As-dur, 4 лендлера, Allegretto c-moll, Соната G-dur op. 78, и через несколько дней: скрипичные сонаты Хиндемита в дуэте с О. Каганом (7, 8, мая, БЗК), а также камерно-инструментальные ансамбли Брамса, Хиндемита, сыгранные со студентами-консерваторцами (21, 22 мая, БЗК).
Должно быть, не случайно было то, что из всех этих концертов особенно потрясли первые два — посвященные 90-летию со дня рождения замечательного советскогго пианиста и педагога Г. Нейгауза. Рихтер почтил память своего учителя исполнением Шуберта. Музыкальное приношение ученика - и творчески -' акт зрелого мастера; обращение к искусству безыскусного, такого естественного, а потому мудрого, в своем простодушии и чистоте автора — и дух эксперимента, смелый художнический поиск, царившие на этих вечерах; подлинная откровенность высказывания, чуть ли не детская доверчивость — и огромная философская наполненность, не отдаляющая музыканта от публики, но повергающая многих сомнению: возможно ли такое, реально ли оно?.,
С самого начала мне кажется нелепой попытка «поверить» алгеброй гармонию искусства великого Мастера. Рассказать о своих ощущениях, об огромном впечатлении, которое вновь произвела игра Святослава Рихтера, - нужно ли это кому-нибудь? И как это трудно! Как выразить словами тот подъем духа, который испытываешь, созерцая величественную горную вершину, морскую ширь?..
Но главная трудность подобного разговора — в том, что на первом плане в нем оказываются категории не столько собственно профессиональные, пианистические, и даже не общемузыкальные, сколько общеэстетические и даже этические...
Рихтер выходит на сцену не для того, чтобы доставлять удовольствие слушателям, поразить их, или потрясти. Не только для того, чтобы выразить свое отношение к исполняемому (ибо здесь не ощущаешь дистанцию между своим и не своим), и еще менее для самовыражения (во всяком случае - явного) - такой процесс, как мне кажется, совсем чужд ему.
Музицирование Рихтера — титанический акт постижения глубинных основ жизни, выраженной в музыкальной материи. Процесс постоянных поисков истины, счастливыми свидетелями которых мы являемся вот уже на протяжении десятилетий. Именно поэтому Рихтер всегда разный, и именно в этом он един, он всегда - Рихтер.
Но путь слушателя к познанию сущности этих поисков далеко не прямолинеен, порой противоречив. Отчетливо помню, что при всем грандиозном впечатлении от рихтеровской шубертиады 2 мая меня не покидало ощущение некоей заданности, искусственности многого, что звучало тогда. Что же служило источником такого ощущения? Постоянное противопоставление piano — fortissimo — без «середины». Трогательное, «ранимое» piano, целомудренное, как сам Шуберт,— в столкновении с суровым, жестоким forte. И так - во всех исполняемых сочинениях.
Особенно наглядно поисковость выбора художественных средств (а точнее — поразительное самоограничение в этом выборе) сказалась в интерпретации шубертовской Сонаты G-dur. К примеру, в экспозиции первой части: здесь все темы предельно сближены в нюансировке (и вместе с тем каждая — индивидуально прорисована), и только лишь один внезапный возглас приводит к ff, после которого — вновь тончайшее piano… Своего рода микромир, микрокосмос, где все живет интенсивной внутренней жизнью! То же соотношение — между экспозицией в целом и разработкой первой части, с ее трагичным, словно неотвратимым ff. Тот же контраст— в Andante и Menuetto (вторая и третья части), где вновь и вновь в бесконечно разнообразных, но внутренне родственных проявлениях возникают зловещие ff и нежнейшее, беззащитное pp. И вот, наконец, вы-ход из этих коллизий — в царство фантастики — уводящее в сказку финальное Allegretto, совсем в духе мендельсоновской увертюры к «Сну в летнюю ночь». Завораживающе-полетное скерцо, сверкающее великолепием сказочных переливов, светотеней, и бликов — но опять- таки вытканных на тончайшем холсте рихтеровского pianissimo.
После концерта мы обменялись мнениями с Давидом Абрамовичем Рабиновичем. И, к моему удивлению, мнения наши во многом сошлись. «Да, - сказал Рабинович, - мне тоже кажется, что все, что мы слышали, есть эксперимент. Новый этап нескончаем его поиска Мастера. Но давайте послушаем его еще раз (впереди предстоял еще один концерт - 3 мая, с той же программой.— Л. С.). Напомню Вам, что Рихтер уже не впервые обращается к такой «двухцветной» палитре». И выяснилось, что в коллекции Давида Абрамовича содержится уникальная (двадцатилетней давности) рихтеровская запись «Funerailles» Листа, поразительно напоминающая (конечно, только в самом общем, собственно колористическом плане) манеру, избранную пианистом в нынешних шубертиадах.
И действительно, после шубертиады 3 мая ощущение заданности куда-то ушло. Более того, когда я посмотрел после концерта в ноты, то увидел, что все эти нюансы там есть. Так написал Шуберт, и именно так его истолковал Рихтер...
Поиск обернулся открытием истинного Шуберта!
В трактовке шубертовских произведений было отчетливо заметно желание Рихтера как бы замедлить время. Он обращался с ним с колоссальной свободой — и потому в каждом сочинении было свое время, то вдруг остановленное безмерно длящимся piano, то вдруг — словно повернутое вспять (при закономерном для Рихтера повторе экспозиции в сонатной форме)...
И вновь я задаю себе вопрос — какова же рихтеровская концепция Шуберта? Быть может - в духе древнегреческой трагедии: человек и рок? Однако такого рода «программность» вряд ли соответствует действи-тельному пониманию Рихтером музыки первого роман* тика. В одном я убежден твердо: в том, что во времена иные не могло возникнуть контрастов такой силы, каких достиг пианист XX века — Святослав Рихтер! Не могло возникнуть такой трагической пронзительности при всей величайшей сдержанности и гармоничности высказывания (особенно в с-moll’ном Allegretto и е-moll’ной Сонате).
Да, искусство Рихтера всегда несет в себе заряд огромного духовного напряжения, восприятие которого требует адекватных усилий от слушателя. И такой способностью обладает далеко не всякий. Многие ждут от музыки прежде всего эмоционального воздействия, ищут в ней правду переживания, искреннее чувство (да и как не искать их в творчестве Шуберта!). Все это есть (и в огромной мере) в игре Рихтера, но отходит на второй план под натиском мощнейшего интеллектуального начала. Ркхтеровская концепция обязательно включает в себя эмоциональный момент, но подчиняет его обобщающей мысли, создавая единый сплав, построение огромной художественной силы и значимости.
Постичь внутренние законы мышления Мастера подчас очень нелегко, да я и не задавался такой целью. Далеко не все (и не всегда) воспринимают единодушно всё в рихтеровском искусстве. Но он поднимает слушателя до своей духовной высоты, до масштабов своего музыкантского сознания. И его возвышающее воздействие испытывает каждый, кто соприкасается с ним. Вот, кажется, и нашлось более или менее точное (хотя и не полное) выражение характера воздействия искусства Рихтера. Оно возвышает.
А. Скавронский
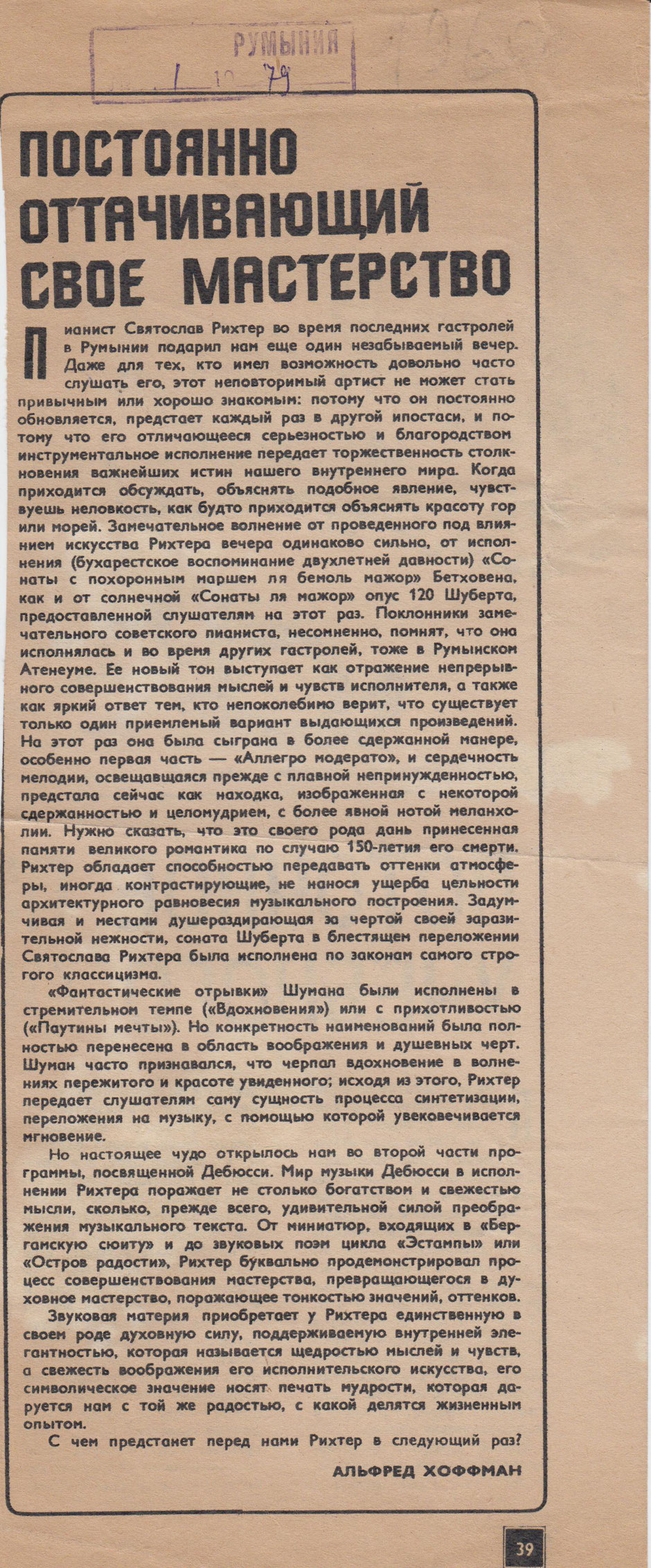
И.Нестьев.
«Музыкальная жизнь», 1979, №1.
«ХРОНИКИ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА»
Вслед за интересными телефильмами, посвященными Д.Шостаковичу, Г.Свиридову. Э.Гилельсу, Л.Когану, творческое объединение «Экран» отважилось сделать большой фильм о Святославе Рихтере.
Нужно сказать, что лучшие работы телеобъединения «Экран» заслуживают похвалы. Дело это крайне сложное, оно требует новых, свежих форм пропаганды вершинных явлений музыки. Ведь часть телезрителей, к сожалению, привыкла к слишком легким, поверхностно «комфортным» видам искусства. Внушить ей уважение и интерес к истинным художественным ценностям – задача первостепенной важности.
И вот теперь – «Хроники Святослава Рихтера». Известно, что прославленный пианист слывет «недоступным» для журналистов всякого рода, презирает рекламу, шумиху, разговоры «вокруг» музыки, не любит сниматься, давать интервью.
«Мое интервью – это мои концерты», – сказал он однажды. И надо было обладать исключительным долготерпением и изобретательностью, чтобы так естественно и просто, без парадности, запечатлеть знаменитого артиста во всем многообразии его артистического и человеческого облика. В фильме использованы и старые документальные кинокадры, и редкие фото, и современные съемки скрытой камерой. Рихтер снят то на репетиции, то на концертах в Москве, Риге, Зальцбурге, а то просто на улице, по дороге в филармонию. – человек нисколько не похожий на романтического артиста-поэта, покорителя и кумира толпы. Автор сценария Андрей Золотов умело использовал возможности телевизионной журналистики, дабы непринужденно и увлекательно рассказать о творчестве Рихтера, представить его искусство как концентрат самой высокой духовной культуры XX века. Основная часть текста сценария соткана из серии содержательных интервью с крупнейшими музыкантами наших дней. О Рихтере говорят пианисты Артур Рубинштейн, Гленн Гульд и Ван Клиберн, дирижер Мравинский, певец Дитрих Фишер-Дискау, художники Ренато Гуттузо и Анна Трояновская. Из их рассказов постепенно складывается повесть о Рихтере: его юности, годах учения в классе Нейгауза, его увлечении живописью, наконец, о его широчайшем всенародном признании. Некоторые из высказываний настолько емки и эстетически насыщены, что зрителю, во всяком случае искушенному, вероятно, захочется увидеть их напечатанными и вновь серьезно продумать...
Пожалуй, самое волнующее и притягательное – это «крупные планы», запечатлевшие внутренний мир музыканта. Телевизионный экран показывает нам то драгоценное, чего не увидишь даже из первых рядов партера – живой облик артиста, всецело погруженного в стихию музыки, безоглядно отдавшегося властному ее зову. В телефильме нашла свое место и замечательная беседа с пианистом, организованная несколько лет назад латвийскими кинематографистами, снявшими документальный фильм «Святослав Рихтер». С особым волнением включаешься в этот спонтанный разговор. исполненный искренних признаний. Пианист говорит о своих разнообразнейших музыкальных привязанностях («Я жадный, в музыке так много интересного!»), признается в своей любви и верности широкой публике («Публика всегда права...»), публике, всегда предпочитающей музыку открытой души любым самым утонченным интеллектуальным изыскам.
В телефильме много отличной музыки, собранной из записей разных лет. Эта музыка – главное в фильме. Собрать кинокадры, представляющие Рихтера-исполнителя, было нелегко: многие его ценнейшие интерпретации вообще не записаны на видеопленку, а то, что записано, порой сводится лишь к сжатым хроникальным эпизодам. Тем не менее авторы сделали все возможное чтобы показать играющего Рихтера как можно более разносторонне.
Трудно перечислить все интересные находки, примененные в фильме. Незабываем, например, колоритный эпизод с песней Шуберта «Прощай», исполняемой Фишером-Дискау и Рихтером: музыка здесь звучит настолько динамично, что даже неподвижные фотографии артистов благодаря ей кажутся чудесным образом оживающими, наполняются внутренним движением.
Похвально столь нечастое для радиотелевизионной практики строгое уважение к музыке, звучащей в этом фильме: она дается большей частью крупными фрагментами, почти нигде не превращаясь в звуковой фон для пейзажей или хроникальных кинокадров (несколько исключений допущено лишь в начальных тактах «Венского карнавала»), К особой радости любителей музыки, сохранен ряд фрагментов медленной созерцательной музыки (к сожалению, популярные передачи о музыкантах нередко строятся по шаблону – преимущественно на торопливом чередовании стремительно быстрых финалов и код, более «удобных» по хронометражу).
Нельзя не вспомнить о показанных в фильме исполнительских шедеврах Рихтера, интерпретирующего Баха, Моцарта, Шуберта, Шумана, Рахманинова, Хиндемита, Дебюсси. Нельзя не сказать о покоряющей жизнерадостности моцартовского концерта B-dur, о романтической пылкости «Этюда-картины» № 3 Рахманинова, о звуковом очаровании «Бергамасской сюиты» Дебюсси. Конечно, репертуарная щедрость Рихтера столь велика, а художественная палитра столь многогранна, что трудно было и мечтать уложить все в одной-единственной телевизионной ленте. Придирчивые слушатели могли бы, наверное, предъявить и претензии: почему, скажем, в этом фильме звучит так мало русской музыки, почему не представлены Бетховен, Лист, Скрябин, Чайковский, а столь близкий рихтеровскому сердцу Прокофьев подан лишь несколькими заключительными фразами Пятого концерта. Ну что же, будем рассчитывать, что фильмы о Рихтере еще не раз возникнут, что неутомимая скрытая камера еще шире запечатлеет для потомков бессмертное искусство пианиста во всей его звуковой и визуальной неповторимости.
И. НЕСТЬЕВ

С. БИРЮКОВ.
«Телевидение и радиовещание», 1979, №2.
Мы не всегда задумываемся над тем, чьими современниками нам посчастливилось быть. Сознание привыкает к их, если можно так выразиться, постоянному духовному присутствию, благодаря которому
жизнь обретает особую наполненность и смысл.
Так произошло и со Святославом Рихтером.
Без его исполнительского творчества, самой его личности невозможно представить себе сегодняшнее мировое музыкальное искусство.
Этой мыслью начинается, а в конце к ней приходит вновь рассказ о пианисте в новом телевизионном фильме студии музыкальных фильмов творческого объединения «Экран»
ХРОНИКИ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
Телевидение неоднократно становилось посредником между выдающимся мастером и широкой – такой, которую никогда не смогли бы вместить самые большие концертные залы, – почитающей его талант аудиторией. На этот раз телезрители имели счастливую и совершенно особую возможность, вновь встретившись с любимым артистом, с необычайной силой наглядности ощутить масштабность и неповторимо-индивидуальную целостность его творческой натуры.
Об исполнительском искусстве Рихтера сказано и написано очень много. Приверженность художественной идее, подчинение ей всех средств выразительности, универсализм музыкальных интересов – все эти качества стали для нас неотъемлемыми компонентами рихтеровского таланта. В фильме они заявили о себе с новой силой и свежестью.
На протяжении полутора часов звучала музыка восьми замечательных композиторов, представлявших искусство XVIII, XIX, XX веков. В этом конспективном охвате мирового классического репертуара Рихтер проявил себя с неизменной художественной чуткостью и мастерством. Простым и значительным, возвышенным и свободным от ложного пафоса предстал в исполнении пианиста И.С.Бах. Кристальной ясностью, духовной чистотой, точным и бережным донесением каждой звуковой детали при абсолютной структурной целостности пленила интерпретация Моцарта. В шубертовских композициях у артиста на первый план, как обычно, выступили теплота, задушевность и наивная, почти детская бесхитростность. Чеканность образов, резкая маркированность внутренне напряженного ритма, – таким мы услышали Шумана. Радостно-привольное, но спокойное течение музыки Дебюсси было точно уловлено интерпретатором. Страстностью, романтичностью и притом удивительной дисциплинированностью (как и у самого автора музыки) отличалось исполнение рахманиновской пьесы. В образном мире Хиндемита пианисту оказалась близка склонность немецкого мастера к философской сосредоточенности. Пафос могучего душевного подъема, захватывающий энтузиазм и уверенная сила пружинно-взрывчатого ритмического движения – так можно охарактеризовать образ, созданный Рихтером в музыке Прокофьева, образ, когда-то рождавшийся в совместных исканиях великого композитора и крупнейшего мастера фортепианной игры современности. Какими разными представил этих композиторов в своем исполнении Рихтер, как в каждом он любовно сохранил – в Моцарте моцартовское, в Шумане шумановское, в Прокофьеве прокофьевское – то, благодаря чему мы с трудно передаваемой словами радостью узнаем в их произведениях знакомые и дорогие нам духовные черты личностей этих великих творцов! В то же время всюду мы ощущали единый рихтеровский стиль с его неизменными атрибутами – четкостью мысли и абсолютной ясностью художественного намерения.
Мы знаем Рихтера как мастера самых разнообразных исполнительских жанров. И теперь создатели фильма показали нам Рихтера в разных амплуа: пианист исполняет сольные пьесы, участвует в ансамблевом исполнении – в том числе (случай довольно редкий в практике крупных солистов-инструменталистов) аккомпанирует пению–еще один, и немаловажный, штрих к портрету мастера, говорящий о преданности Рихтера не «своей флейте» (как метко сказал когда-то К.-Ф.Э.Бах о музицировании одной коронованной особы), а интересам музыкального искусства. Широта художественных влечений Рихтера сказалась и здесь, как сказалась она в стремлении пианиста не ограничивать круг своих эстрадных партнеров только всемирно признанными «звездами». Главное для него в выборе партнера – высокий талант и профессионализм, а не громкое имя музыканта. В частности за последнее время стали систематическими выступления Рихтера с молодыми исполнителями – в том числе со студентами и аспирантами Московской консерватории; думается, что этим мастер, не занимающийся, как известно, педагогической работой, выполняет (помимо чисто артистических задач) благородное дело передачи частицы своего умения творческой молодежи. Фильм свидетельствует об этой стороне деятельности Рихтера.
Личность Рихтера-музыканта необычайно разностороння. Соответственно разносторонни и его внемузыкальные художественные приверженности. Авторы телевизионной ленты рассказывают телезрителям о занятиях Рихтера живописью – направлении творчества для широкой публики, знающей Рихтера только как пианиста, несколько неожиданном.
Продолжает «живописную тему» фильма рассказ о выставке «Музыкант и его встречи в искусстве» – выставке, собранной самим Святославом Теофиловичем, где представлены портреты многих деятелей культуры, с которыми сталкивала Рихтера артистическая судьба. Знакомясь с широкими творческими связями Рихтера и его современников, мы как бы еще больше раздвигаем для себя масштаб рихтеровской личности.
Наконец, мы видим Рихтера непосредственно в жизни. Бытовой план дан в фильме весьма скупо, и это вполне понятно: ведь фильм – прежде всего об артисте. Но – и о человеке тоже. И какие-то черты личности через маленькие обыденные эпизоды мы начинаем понимать лучше, – в первую очередь, рихтеровскую простоту, естественность, скромность, так органично гармонирующие с творческим обликом художника.
Итак, – полтора часа общения с Рихтером. Но не только с ним. В фильм включены интервью с выдающимися музыкантами-исполнителями нашего времени, с деятелями изобразительного искусства. Их высказывания о Рихтере – один из весьма привлекательных компонентов фильма, находящийся в тесном единстве с собственно музыкальным планом. В этих интервью говорится о сродненности мастера с его инструментом, о свободном, без всякого акцента на внешнюю виртуозность, творчестве за фортепиано, результатом которого всегда является как бы новое открытие сочинения. Говорится об искренности рихтеровского исполнения (и не только исполнения, но и жизненного поведения вообще), о полном отсутствии в нем какой бы то ни было позы.
В высочайшей оценке дарования Рихтера, во многих аспектах его характеристики сходятся люди самых разных художественных темпераментов и убеждений. Трудно, например, представить себе более несхожих друг с другом артистов, чем Ван Клиберн и Глен Гульд: первый – яркий романтик, второй – не менее яркий классицист. Тем более симптоматично совпадение их взглядов на игру Рихтера (речь в обоих интервью идет об интерпретации поздних сонат Шуберта – сценарная дублировка, напервый взгляд могущая показаться случайно, но, по-видимому, сознательно использованная авторами ленты, чтобы подчеркнуть объективность суждений этих музыкантов-антиподов). Иногда, наоборот, мы встречаемся – причем даже в речи одного и того же человека – с диаметрально противоположными, казалось бы, высказываниями: например, Гульд говорит, с одной стороны, об абсолютной антиимпровизационности рихтеровской манеры игры, а с другой, констатирует яркий эффект спонтанности, граничащей с импровизационностью. И это тоже не случайно – ведь высказывания относятся к художнику уникального творческого универсализма, исполнительский стиль которого включает в себя кажущиеся антагонистическими тенденции. С точки зрения более глубокого понимания художественного метода Рихтера интересны свидетельства представителей изобразительного искусства – художников и искусствоведа: такова мысль о скульптурности, архитектонической проработанности рихтеровской трактовки, любопытна и параллель с исполнительским стилем, на которую наталкивает наблюдение о том, что Рихтер почти не рисовал с натуры, а любил делать это по памяти – то есть так, чтобы не отвлекали детали и перед внутренним взглядом оставалось только главное, только суть (всегда простая!) образа.
Включение в фильм, помимо интервью с Е.Мравинским, А.Трояновской и И.Антоновой, словесных выступлений Артура Рубинштейна, Д.Фишера-Дискау, В.Клиберна, Г.Гульда, 3.Кочиша и Р.Гуттузо имеет, кроме эстетически-информативного, еще один аспект, свидетельствующий о высоком престиже советской культуры.
По сути дела перед нами – большое повествование о художнике, слитое из множества музыкальных исполнений и новелл-рассказов (а каждое интервью – это маленькая новелла, причем не только о Рихтере, но и о том человеке, который о пианисте говорит), объединенных общей темой – творческой фигурой мастера-исполнителя. Благодаря такому решению фильм воспринимается не просто как посвященный Рихтеру, но как говорящий о месте Рихтера в современной культуре. Удачным, способствующим единому слушательско - зрительскому впечатлению, показалось сценарное решение ленты – и визуальное, и музыкальное, и словесное. Лента снята скрытой камерой – это придает ей прелесть достоверности. Но в подборе планов, в их последовательности ощущается особая «музыкальная» поэтичность. При общем спокойном течении повествования, так соответствующем созданному в фильме образу артиста, достигнута внутренняя динамика следования эпизодов, где каждый музыкальный фрагмент служит импульсом для развертывания словесных высказываний, а каждое высказывание в свою очередь готовит последующий музыкальный фрагмент – так, что от эпизода к эпизоду происходит все более глубокое проникновение в суть музыки. Стержнем музыкальной программы служат композиции Шумана и Шуберта, – очевидно, в соответствии с той ключевой для пианизма ролью романтического репертуара, о которой в фильме говорит сам Рихтер. К этим авторам неоднократно возвращает нас музыкальное «действие», а «Венский карнавал» Шумана словно бы пронизывает собою весь фильм. Некая «карнавальность» в смысле, близком к известному понятию, выдвинутому М.Бахтиным в его монографии о Рабле, вообще присуща многоплановой образной структуре фильма, которую можно было бы даже назвать пестрой, не будь она столь цельной. С Прелюдии лента начинается, в середине ее звучит лирический Романс, а в конце фильма – Финал. Правда, для самых последних кадров создатели картины привлекли другую музыку – шубертовские лендлеры, которые до того в фильме уже прозвучали: эффект повтора способствует естественной закругленности кинематографической формы, а незамысловатый лирический склад пьес вызывает ассоциации с мягко сказанным словом прощания, – но нет, не прощания, скорее смысл этих музыкальных звуков – дружеское «до свидания», за будничной, простой внешностью которого скрывается задушевность – обещание будущих встреч. Логична также расстановка интервью, где среди посвященных отдельным аспектам суждений выделяются три наиболее значительных высказывания: первое интервью фильма, в котором слово предоставлено Артуру Рубинштейну, интервью с Гленом Гульдом и последняя беседа ленты – с самим Рихтером. Наконец, важнейший фактор единства фильма – текст и голос ведущего, сценариста Андрея Золотова. Его речь – словно мысли «человека из зала», представляющего ту самую публику, которая, согласно собственному высказыванию Рихтера, в конечном счете всегда права. В своих рассуждениях ведущий вовсе не претендует на то, чтобы разложить рихтеровскую индивидуальность «по полочкам», напротив, он стремится обрисовать только наиболее характерные черты сложного, бесконечно многогранного образа художника, к пониманию которого можно лишь в той или иной мере приблизиться. В авторском тексте и манере его произнесения чувствуется притом особое, любовное отношение к искусству и фигуре Рихтера как к чему-то имеющему и глубоко личное значение. «Личное» в отношении ведущего к артисту имеет глубокие корни: уже не первое десятилетие Золотов изучает искусство Рихтера, его артистический путь, и многие события, связанные с этим, стали фактами его личной биографии: например, присутствовал при встрече Арт. Рубинштейна с Г. Нейгаузом в 1964 году и их беседе о Рихтере. Меткость характеристик, поэтическая выразительность слога–черты, хорошо знакомые многим по выступлениям Золотова на телевидении и в печати, – в полной мере присутствуют и в новой его работе.
Фильм «Хроники Святослава Рихтера» – творческая удача. Вместе с тем не все в нем кажется бесспорным. Так, не всегда с музыкальной точки зрения оправдано слишком дробное фрагментирование используемых пьес, хотя причины такого решения вполне объективны и коренятся в свойствах самого звукового материала (специфическая «текучесть» хиндемитовской музыки), в отрывочности исходных хроникальных кадров (заключительные такты Пятого фортепианного концерта Прокофьева заимствованы из старой польской кинохроники), наконец, в вынужденной ограниченности экранного времени. Однако указанный недостаток, как нам кажется, не влияет существенным образом на суммарное впечатление от фильма, которое остается ярко положительным.
Андрей Золотов и возглавляемый им коллектив студии известны как создатели целого ряда музыкальных фильмов, многие из которых становились значительным событием в культурной жизни нашей страны. Назовем хотя бы фильмы о Л.Когане, И.Архиповой, Д.Шафране, Е.Образцовой, Ал.Ведерникове, Е.Нестеренко, кинопортреты К.Караева, Р.Щедрина, Ан.Александрова, А.Касьянова, Анат.Новикова, В.Соловьева-Седого... Благодаря энтузиастическому труду коллектива и прежде всего его руководителя – яркого и талантливого музыкального писателя, публициста, сценариста – самым широким массам телезрителей была предоставлена возможность общения с высоким искусством, возможность проникнуть в творческую лабораторию крупнейших художников. Нам памятны фильмы со сценариями Золотова «Композитор Свиридов», цикл из шести музыкальных фильмов «Искусство Евгения Мравинского», а также цикл из шести фильмов «Искусство Святослава Рихтера», к которому добавился теперь новый фильм о пианисте.
Нынешнюю работу А. Золотова, режиссера С.Чекина и оператора Н.Москвитина было бы справедливо рассматривать как некое обобщение по отношению к предыдущим «рихтеровским» фильмам. Если те представляли собой ленты, художественно отснятые в условиях «живых» концертов, дополненные комментариями и взятыми тут же, «на месте события» интервью, то здесь – анализ индивидуальности артиста, ее, если можно так выразиться, целостное моделирование. Существенно, например, что все интервью в «Хрониках...» взяты не на концертах, а в нейтральной обстановке, отчего высказанные мысли обретают большую объективность.
Творческая активность коллектива студии велика. Вскоре после «Хроник Святослава Рихтера» на телеэкраны вышли еще два фильма из серии о Мравинском – «Дирижирует Евгений Мравинский» (прозвучали увертюра к опере «Оберон» Вебера и «Неоконченная симфония» Шуберта) и «Брамс. Вторая симфония», снятые А.Золотовым, как и другие фильмы этой серии, совместно с режиссером К.Бромбергом. Авторы думают и о новых работах, о новых творческих решениях. Хочется поблагодарить их за неутомимый труд и пожелать дальнейших успехов в деле пропаганды лучших достижений музыкального искусства – деле, важность которого трудно переоценить.
В. Юзефович
М.Богданова.
«Смена», 1979, №21.
ЧАС МАСТЕРСТВА
На афишах концертных сезонов последних лет рядом со всемирно известным именем Святослава Рихтера не раз появлялись имена начинающих музыкантов–студентов и аспирантов Московской государственной консерватории.
Для учащихся творческих вузов выступление на профессиональной сцене – явление в общем-то обычное. Как правило, они либо дополняют «взрослый» коллектив, либо дают совершенно самостоятельные концерты, отношение к которым взыскательное и серьезное, но все же не свободное от некоторой, хотя бы малой доли снисхождения. Но когда молодые, еще недипломированные исполнители выступают вместе с выдающимися музыкантами. то никаких скидок на неопытность делаться не может. Удачен или неудачен бывает такой союз, во многом зависит от той роли, которую берет на себя мастер по отношению к молодым партнерам. Если, помимо прочих высоких дарований. в нем есть дар наставничества, то наша музыкальная жизнь обогащается еще одним замечательным событием, а начинающие музыканты приобретают неоценимый опыт и знания, которые сумел передать их наставник.
О студенческом коллективе, работающем вместе со Святославом Рихтером, пойдет речь здесь.
Лет пять назад в Московской государственной консерватории произошло событие исключительное и необычайное. Святослав Рихтер предложил организовать ансамбль студентов и аспирантов, который мог бы сыграть с ним и скрипачом Олегом Каганом концерт австрийского композитора Альбана Берга, сочинение уникальное по трудности исполнения и по сложности образного строя.
Уже давно были оставлены надежды, что когда-нибудь Рихтер решит заняться педагогической деятельностью и среди музыкантов появятся его ученики. И вдруг... Но предложение Рихтера не означало открытие нового класса в консерватории: должна была начаться работа, требующая отнюдь не ученического уровня мастерства, а самого высокого профессионализма. Работа, которая, по словам декана факультета Татьяны Алексеевны Гайдамович. означала бы примерно то же самое, что и восхождение на самую труднодоступную вершину сразу же после тренировочных походов по холмам. Концерт для фортепьяно, скрипки и тринадцати духовых Альбана Берга – это и была та вершина, на которую Рихтер решил повести тринадцать студентов Московской консерватории.
Еще одна необычная деталь этого события–избранниками оказались духовики. Обычно они бывают как бы на вторых ролях. Музыканты почти без сольных концертов, без ведущих партий в ансамблях, да и садят всегда в задних рядах оркестра. И вот поворот судьбы, высоко поднявший авторитет духового отделения. Но избранникам выпала стезя хоть и почетная, но тяжелая. Предстояло одолеть произведение столь трудное, что среди музыкантов всего мира мало кто решался взяться за его исполнение, и еще меньше бывало случаев, когда его играли хорошо.
Наконец ноты партий этого концерта, в котором использовалась непривычная даже для опытных музыкантов серийная техника, оказались на пюпитрах студентов, и работа началась. Интенсивность и продолжительность репетиций, проходивших под руководством Юрия Ильича Николаевского. дирижера и руководителя ансамбля, могли выдержать, вероятно, только студенты. Как обычно готовят произведения в профессиональных оркестрах?
– Пять-шесть репетиций – и выход на публику. А тут десятки и десятки репетиций еще до встречи с Рихтером. – говорит мне Толя Камышев, один из участников оркестра, в фойе зала Чайковского и поглядывает на часы: как бы не опоздать. Он из так называемых «играющих» студентов, то есть тех. кто уже выступает на профессиональной сцене. Когда стоял вопрос, кого включить в организовывающийся оркестр, предпочтение отдавалось этим студентам.
Но опытные музыканты почувствовали себя растерянными и. пожалуй, беспомощными, начав работать над сложным концертом. Ансамблевые трудности казались непреодолимыми. Каждый инструмент – солирующий! Ни одна партия не повторяется! Терпеливо и чутко повел свою работу с молодыми музыкантами руководитель ансамбля Николаевский. Сочетание академичности и непосредственности создает в этом всегда подтянутом, строго выглядящем человеке удивительную привлекательность и обаяние. Репетиции с ним приучали студентов к тому деловому и свободному стилю общения, с которым студентам предстояло столкнуться в работе с Рихтером.
Но встреча с ним все еще продолжала оставаться далекой. Казалось, репетициям не будет конца. Некоторые не выдерживали. И тогда, прибегая к привычным методам воспитания, им напоминали, что они как-никак студенты, и белая дверь с табличкой «Деканат» начинала тревожно мерцать перед усталым взором отчаявшихся. Там. за этой дверью, конечно, понимали, как трудно приходится ребятам. Одно дело – учебные тревога и трудности, работа, пусть тяжелая, но все же в пределах учебной программы, а другое – работа вне расписания. за пределами привычных музыкальных форм, без прецедентов и без твердой уверенности в посильности задуманного. И все-таки расчет Николаевского на принцип «количество в качество» оправдался, и на четвертом десятке репетиций оркестр зазвучал.
Настал день, когда должен был прийти Рихтер. Ждали его появления настороженно. В комнате царила непривычная тишина. Разговаривать друг с другом не было ни сил, ни желания. Ступали даже как-то намеренно бесшумно. Но вот отворилась дверь, и вошел Рихтер. Раздались твердые, но легкие шаги. Ребята задвигались, тишина была нарушена сердечными приветствиями и первыми добрыми словами знакомства. Но все же состояние напряженности и скованности сохранилось до конца репетиции.
Видимо, поэтому играли невпопад, держали себя даже испуганно. Но Рихтер был мягок к спокоен, словцо заранее знал, что ребята смогут хорошо сыграть то, что сейчас так досадно не получается.
Волнение притупляло остроту восприятия в первый день встречи с великим мастером. Но уже тогда студенты поняли, что работа с Рихтером даст ту силу и знания, которые будут питать их всю творческую жизнь.
Трудное и серьезное испытание для человеческой личности – каждодневность общения с большими мастерами, необходимость работать с ними ка равных. Здесь таится опасность потерять свою еще не окрепшую индивидуальность, оказаться раздавленным чужим авторитетом. Такая опасность вполне реальна, и все же она не грозит тем, кто встретился с Рихтером.
– В Святославе Теофиловиче нас поразило то.– говорит Володя Зыков, – с каким тактом и пониманием он повел себя с нами, начинающими музыкантами, терявшимися и перед невероятно трудной работой и перед ним самим. И это не было даже отношение доброго, снисходительного мэтра к робеющим ученикам. Так относится музыкант к равноправным партнерам. Он даже может спросить совета, прямо сказать, что у него не получилось что-то, а вот у вас. добавит, все выходит гораздо лучше.
Конечно, никто не обольщался. Каким бы первоклассным ни был уровень подготовки студентов, играть на равных с Рихтером – это все же оказывается выше достигнутого на занятиях предела. Выйти на него молодые музыканты смогли благодаря урокам Святослава Теофиловича. Его влияние на партнеров поразительно не подавляющей, а одаривающей силой. Умение Рихтера работать с ансамблем волшебно: каждый из оркестрантов получал о как бы дополнительную силу, и оркестр превращался в одно могучее существо. Недаром говорят, что рассаживаются они обязательно так, чтобы видеть глаза Святослава Теофиловича.
Концерт Берга был разучен к приходу Рихтера очень тщательно. Однако вся работа, казалось, началась заново. Но на ином уровне. Технической стороны исполнения почти не касались. Teперь игра должна была пройти как бы крещение гением Рихтера.
Начало репетиций с Рихтером – начало «оживления» той звуковой плоти, которую уже обрел концерт Берга в игре ансамбля Оживить своим чувством, своими мыслями подобное прочтение – задача для музыканта очень трудная. Необычное по своей музыкальной структуре, изобилу ющее диссонансами, оно не позволяет исполнителям легко и свободно войти в мир его образов. Нужен большой опыт, особое музыкальное чутье высокой силы воображение, чтобы воссоздав в концерте Берга жизнь человеческих чувств и мыслей. Сделать это помогла участникам ансамбля редкая способность Рихтера находить даже сaмым трудным для восприятия музыкальным моментам реальные и точные образы. Будь то выражение какого-то определенного состояния души или зарисовка природы – это всегда помогало ребятам обрести нужный эмоциональный настрой, и уже дело каждого из них, как передать его на языке инструмента.
Однажды на репетиции Рихтер в отчаянном порыве помочь Олегу Карпову, застрявшему на одном, никак не получавшемся месте, вдруг вскочить из-за рояля, проделал несколько стремительных разудалых па и добавил: «Вот что здесь нужно!»
– И действительно, – признается Олег. – мне все стало ясно. До этого говорили: усиль звук, а я боюсь, знаю, что уже предел, дальше тромбон начнет трещать. Оказалось, что как раз и надо преодолеть этот установленный предел, и тогда выйдет именно то, что нужно.
Репетиции продолжались. Теперь даже те, что проходили с Рихтером, исчислялись третьим десятком. Степень слаженности и наполненности, на которой другие бы давно остановились, была уже позади, а Рихтер вел все дальше. Над одним только местом в несколько нот, случалось, бились два дня. Его работоспособность изматывала молодых, они тянулись за ним, перенимая его неутомимость и настойчивость. Дыхания не хватало даже в прямом смысле: ведь инструменты у ребят духовые. Губы распухали, становилось больно дышать... Рихтер это понимал и умерял свой шаг.
В перерывах шли разговоры на самые разные темы. Ребята не боялись показаться перед ним невеждами. Они знали, что эрудиция этого музыканта огромна и он, находя неожиданные ассоциации и сопоставления, вовлекает в беседу необычайно широкий круг вопросов, отчего разговор разветвляется и нужно обладать богатой памятью, сильной логикой и воображением, чтобы не потеряться. Но студенты знали также, что в такие критические моменты Рихтер сам приходит на выручку заблудившемуся, выводя его на знакомый путь. Поэтому молодые люди решительно бросались в разговор. Непосредственность и чуткость общении делали Святослава Теофиловича желанным, располагающим к себе собеседником.
Боясь показать большого мастера неправдоподобно чутким и щедрым в работе с молодыми музыкантами, все же невозможно удержаться от упоминания еще об одной подробности из жизни ансамбля.
Все знают, что трудовой день артиста кончается довольно поздно, и естественно, что утренние часы особенно дороги ему для отдыха. И тем не менее, когда студенты не могли прийти на репетицию из-за занятий или по другой серьезной причине, Рихтер приглашал их репетировать у себя дома в половине восьмого утра И он встречал их. как всегда, подтянутым и полным энергии, как будто этот ранний утренний час для репетиции самый привыченый и естественный.
Так строились отношения Рихтера с молодыми партнерами, не только приучало их к высокому стилю общения, но и заставляло по-новому, с большим вниманием и взыскательностью относиться самим себе. Стали замечать, что у них изменилась даже манера держать себя: не стало студенческой суетливости, появилась определенная изысканность, спокойная, без рисовки. И что интересно: к этим «избранникам» со стороны других студентов не возникало ни зависти, ни враждебности. Все понимали, что к удаче этих счастливчиков привел упорный и тяжелый труд.
– Создание этого оркестра, – говорит декан факультета Татьяна Алексеевна Гайдамович, – оказало удивительно благотворное влияние не только на участников, но и на жизнь всего факультета, ощущение близости к настоящему творческому делу, как круги по воде, расходилось среди других студентов и создавало благодатную атмосферу для нашей работы.
Но вот настал момент, когда в жизни оркестра должно было появиться новое и самое важное – публика. Рихтер не раз говорил ребятам, что неразличимое в полумраке зала собрание людей – самый верный для музыканта критик. Такая позиция не оставляет для исполнителя а случае неудачи никакого прикрытия. Чтобы ее придерживаться, надо обладать большой стойкостью духа, высочайшей требовательностью к своему мастерству и огромной силой убеждения. Этими качествами еще только предстояло овладеть молодым участникам оркестра.
И вот дверь на сцену уже распахнута, и надо выходитъ на залитую светом площадку. Что предстоит? Повторение того, что уже было за закрытыми дверьми репетиционной комнаты, лишь только четвертая стена, та, что перед их лицом, раздвинется и впустит несколько сот свидетелей?
Нет, слушателей, соучастников. Ведь именно их энергия сопереживания должна придать исполнению тот высокий накал, принять который столь долго и упорно готовились музыканты. Звуки, шлифованные бесконечными повторами, проигрываниями, уже начинавшие отливать холодным блеском металла, теперь оказались под таким напряжением человеческих эмоций, что в них заиграли токи новой жизни. В этом, быть может, и есть секрет исполнительского творчества. Поразительная способность Рихтера вносить страстность и непосредственность импровизации, завораживающий момент сиюминутности великого открытия в исполнение досконально продуманных, сотни раз проигранных вещей передавалась и его молодым партнерам.
Однако первые публичные выступления оркестра состоялисъ не на основных московских сценах. Рихтер не торопился. Он имел возможность и право это делать. Студенты же приучались к самокритичности и терпению. Удача не портила их.
Сначала концерт обкатывался на небольшой аудитории: в Музее имени Пушкина, в музыкальных школах... Только после этого они вышли на сцену Большого зала консерватория.
А вскоре состоялись первые гастроли – в Чехословакии.
Стояла страшная жара. Тридцать шесть градусов в тени. В такую пору заниматься делами трудно. Это естественно. Город замирает. Но в одном из залов Пражской филармонии идет интенсивная работа. Звучат тринадцать духовых, рояль и скрипка. Рихтер, Олег Каган и студенты Московской консерваторки готовятся к выступлению. И опять молодые из последних сил стараются не отстать от сильного, хотя и не молодого мастера. Его трудолюбие и выносливость поражали, но не отдаляли их от великого музыканта, ведь они сами были участниками этой напряженнейшей творческой деятельности.
Толе Камышеву запомнилась одна деталь: во время игры с клавиатуры летели капли влаги, но пальцы пианиста как будто и не ощущали этого.
Успешные гастроли в Чехословакии еще больше укрепили уверенность в возможности и необходимости совместной работы ведущего музыканта и студентов консерватории. Рихтер решил не расставаться с ансамблем, созданным специально для исполнения концерта. Теперь возникла мысль о подготовке нового произведения – камерного концерта Хиндемита. Опять потянулись многочасовые сложнейшие репетиции. Опять они начинали уже исчисляться десятками... Но первоначального изнеможения и отчаяния не наступало. Ребята закалились.
Премьера состоялась в 1977 году в Дрездене. Потом Гёрлиц, Бланк-Бург. Берлин. Особенно ярким был концерт в курортном городе Бланк-Бурге. Величественная и мягкая красота древних гор и освещенный свечами готический зал монастыря, где происходил концерт, уводили слушателей от суеты и делового настроя городской жизни, и приехавшие на концерт, как нигде, становились здесь чуткой и отзывчивой аудиторией.
А прошлым летом Рихтер с учащимися консерватории выступил на международном фестивале искусств в Афинах.
Многотысячная аудитория, собравшаяся в древнем здании театра у подножия Акрополя, запомнилась ребятам тишиной и эмоциональной напряженностью, настроенными в лад с их игрой. И опять успех. Но молодые музыканты понимали, что он пришел к ним в основном благодаря тем усилиям и тем открытиям, которые сделал для них Рихтер. Они также знали, что Святослав Теофилович готов с ними работать и дальше. Значит, их молодые силы тоже нужны ему. И пожалуй, сознание этой своей необходимости особенно взрослило и укрепляло их творческую личность.
Я спросила ребят: «Неужели Рихтер никогда не проявлял недовольства вами, никогда не раздражался и не сердился, что было бы вполне понятно, простительно и даже естественно для музыканта, жизнь которого до предела полна работой, успехами, гастролями и прочими большими и малыми беспокойствами?» В ответ получила короткое «нет», правда, произнесенное с некоторым смущением, наверное, и для них самих это было до сих пор непонятным и невероятным.
Вряд ли в этом проявлялась снисходительность по отношению к студентам. Скорее Рихтер привык принимать огонь на себя. Если Святослав Теофилович находил в своей игре что-то не то, то это «не то». пояснил мне один из студентов, с откровенным восхищением, совсем иного, высшего порядка, чем у других.
И последний мой вопрос: «Что же будет дальше? Последовал завидный перечень, в котором были произведения Шнитке. Стравинского, Яначека, Пуленка. Но при той требовательности, с которой в оркестре приучились относиться к своей работе, на всю подготовку уйдет два-три года.
– К тому времени вы уже окончите консерваторию, – сказала я одному из студентов, – и должны будете работать в каком-нибудь профессиональном ансамбле. Тогда вам уже будет трудно участвовать в ансамбле, а состав его пополнится новыми студентами.
– Если так случится,– воскликнул мой собеседник, – то для меня закончится, наверное, самая прекрасная пора жизни!
И тут мне вспоминаются слова другого студента: «Такого огромного события у меня больше никогда не будет».
Рихтер, по словам многих, кто с ним работал, не признает в себе дар педагога. Систематические занятия по общей для всех программе, довольно замкнутый мир учебного заведения – наверное, все это далеко от жизни Святослава Теофиловича, так же как это было далеко от него в детстве и юности. В те годы музыка познавалась им во всем: в чтении клавиров и импровизации, в аккомпаниаторстве, в сочинительстве, но только не в учебных классах. Конечно, такое становление личности в какой-то степени уникально. «Но в каждом уникальном явлении есть зерно общей для всех закономерности. Жизнь – самый первый учитель. Этим верным учителем была для Рихтера разнообразная музыкальная жизнь, которую он вел в пору своей юности, работая аккомпаниатором в музыкальном кружке при Одесском Доме моряка, концертмейстером в городской филармонии, в концертных бригадах, в театре оперы и балета. И вот теперь его собственное искусство стало школой для начинающих музыкантов.
Для подлинного искусства не существует подготовительной школы, существуют лишь подготовительные работы: лучшая из них – это участие... ученика в деле мастера. Из мальчиков, растиравших краски, выходили превосходные художники».
ГЕТЕ