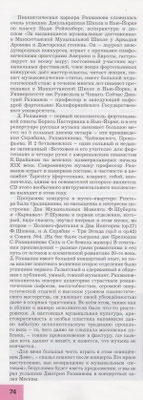Журнальные статьи
2000-е годы

Милица Генриховна Нейгауз.
"Святослав Рихтер в семье Генриха Густавовича Нейгауза".
В книге "Вспоминая Святослава Рихтера". М.: "Константа", 2000 г.
Аудио запись: https://yadi.sk/d/whHKRZMMdhS5J
Слава Рихтер появился впервые в нашей квартире осенью 1937 года. Позже он вспоминал, как шел и волновался, но когда моя мама широко распахнула перед ним дверь и гостеприимно сказала: «Пожалуйста, проходите!» – его волнение улетучилось.
Папа так описал эту первую встречу: «Студенты попросили прослушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию в мой класс. «Он уже окончил музыкальную школу?», – спросил я. «Нет, он нигде не учился». Признаюсь, ответ этот несколько озадачивал. Человек, не получивший музыкального образования, собирался в консерваторию! Интересно было посмотреть на смельчака. И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл. Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул своей ученице: «По-моему, он гениальный музыкант». После Двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл еще и еще. С этого дня Святослав Рихтер стал моим учеником».
В тот учебный год Слава часто приходил к нам в гости, а с сентября 1938 года папа пригласил его жить у нас, и он окончательно к нам переехал. По тем временам считалось, что мы живем очень просторно – в отдельной трехкомнатной квартире с ванной и горячей водой. В одной комнате была спальня родителей и одновременно столовая, в другой жили бабушка, мой двоюродный брат Сережа 13-ти лет и я 9-ти лет, в третьей стояли два рояля и спали Слава и наша собака Альма. Постоянно приходили к нам два моих брата: Адик 12-ти лет и Стасик 11-ти лет. Их мать Зинаида Николаевна – первая жена моего отца – вышла замуж за Бориса Леонидовича Пастернака, и мальчики жили в семье Пастернака, но почти еженедельно бывали у нас. Обычно каждый день приходил к нам юный Толя Ведерников, талантливейший музыкант, ученик отца. Он был вундеркиндом в Харбине, концертировал мальчиком в Японии, в 1936 году шестнадцати лет решил учиться у Нейгауза, приехал с родителями в Москву и поступил в Консерваторию. Вскоре родителей арестовали, и Толя остался один. Папа сказал ему, что он может считать наш дом своим домом. С тех пор Толя подружился со всеми обитателями нашей квартиры и стал регулярно бывать у нас.
Славу любили все жители нашей квартиры: родители как сына, а мы, дети, как старшего брата. Слава отвечал всем нам тем же. Он не только восхищался моим отцом как музыкантом, но и преданно любил и его, и мою маму. К нам он относился как к любимым малышам и даже пытался нас воспитывать, но чаще вел себя с нами как ровесник.
Все мы – и мама, и дети, и ученики, и многие друзья – буквально боготворили моего отца, человека необычайной одаренности и редкого обаяния. Он ежедневно занимался на рояле сам; по его собственному выражению, у него был «миллион» учеников, к тому же он давал концерты, открытые уроки, читал лекции. Широта его знаний и интересов была необъятной. Папа в своей книге «Размышления. Воспоминания. Дневники» написал о себе: «направленный к Добру человек».
И действительно, атмосфера добра и любви царила в нашей семье.
Моя мама была человеком широкой души. Каждого приходящего в наш дом она встречала с искренним радушием, стремилась накормить всех, кто бы к нам ни пришел: будь то моя подруга, или товарищ мальчиков, или пришедший на урок ученик отца. Подлинный оптимист, она философски относилась к невзгодам жизни. По поводу всевозможных неприятностей обычно восклицала: «Какие пустяки!» Мама нежно любила нас и заботилась обо всех.
Мама обожала Славу. Она прощала нам все проказы, если Слава в них участвовал. Она заботилась о нем как о сыне. Беспокоилась, не голоден ли он, старалась накормить повкуснее. Мама была истинным любителем музыки. Она бывала на всех, без исключения, концертах отца, а позднее на всех концертах Рихтера, Ведерникова и Станислава Нейгауза. Она старалась не пропускать и выступлений Гилельса, Зака, Софроницкого, и многих других музыкантов.
Слава подарил маме свою фотографию с надписью: «Дорогой Милице Сергеевне от любящего Славы. 1 августа 1942 года».
Моя бабушка была душевным человеком. Она близко к сердцу принимала жизненные перипетии своих родственников и друзей. К ней приходили многие люди и всегда находили сочувствие и добрый совет. Бабушка интересовалась жизнью всего мира, постоянно слушала радио. Помню, как она беспокоилась о судьбе папанинцев, дрейфовавших на льдине в Северном Ледовитом океане. С неизменным юмором она рассказывала разные истории. Бабушка так же, как все мы, любила Славу.
Сережа был добродушным невозмутимым флегматиком. Обычно он сидел в кресле и читал книгу. Как у нас говорили, он «глотал» книги. Он был очень способным к наукам, но я не помню его с учебником в руках. У Сережи было много друзей: он был верным другом.
Адик, белокурый голубоглазый красавец, был открытым и общительным мальчиком. Доброта и радушие светились на его лице. Помню, как он сказал моей бабушке: «Варвара Ивановна! Я с радостью подарил бы Вам несколько лет моей жизни!» Буквально все, с кем он общался, любили его.
Стасик был молчалив, застенчив. На его лице блуждала милая, загадочная улыбка. Он учился в то время в школе имени Гнесиных у Валерии Владимировны Листовой. Стасик был разносторонне одаренным мальчиком: умел решать трудные математические задачи, интересно писал сочинения, изобретательно играл в шахматы, с увлечением рисовал. Борис Леонидович говорил, что при желании Стасик мог бы стать художником. В силу стеснительности Стасик не бывал заводилой каких-либо проказ, но неизменно приходил в восторг от любого комического эпизода.
В нашем доме любили веселье и развлечения. Часто по вечерам приходили мои подруги, друзья мальчиков, родственники, ученики отца. И хозяева, и гости чувствовали себя одинаково свободно и непринужденно. Душой нашей детско-молодежной компании неизменно был Слава. Он был неистощим на выдумки – сочинял театральные пьесы, которые мы тут же играли, ставили шарады, «живые картины», играли в «мнения», в настольную игру «Жизнь художника», которую Слава сам придумал и нарисовал на большом листе картона.
В те вечера, когда Славы не было дома, центром компании становился Толя Ведерников, веселый, жизнерадостный, независимый и в жизни, и в суждениях. Он приходил к нам в дом с пачкой пельменей и тут же раздевался до трусов. Бабушка, увидев это, немедленно уходила в свою комнату со словами: «Я не привыкла видеть голых мужчин!», а Толя шел за ней, говоря: «Варвара Ивановна! Посмотрите же, какой я красивый!» Затем Толя возвращался на кухню, варил пельмени, съедал всю пачку, угостив несколькими пельменями Альму, удобно усаживался в кресле (мы скапливались вокруг) и начинал рассказывать очередную сногсшибательную историю. Толя обладал столь богатой фантазией, что запас его историй был поистине неисчерпаем.
Слава многие годы дружил с Толей.
Когда днем мы собирались все вместе во главе со Славой, наши забавы становились более озорными. Мы бросали с балкона нашего пятого этажа надбитые тарелки в выбранную мишень. В нашем дворе в то время шла стройка и валялись кучи строительного мусора. Эти кучи мы и «обстреливали». Всеобщее ликование не знало границ. Однажды мамы не было дома и мы (Слава, Толя, Сережа, Адик, Стасик и я) совсем расхулиганились. Хватали и целые тарелки. Кидали, кто дальше зашвырнет. Кричали, хохотали, Альма лаяла. Внезапно вошла мама: «Что вы тут делаете?! Вы что, разбили все наши тарелки? Какое безобразие!» – и, увидев, что Слава держит наготове тарелку, добавила: «Ну, хорошо, еще одну и довольно!»
Слава был, как говорят, «совой» – он любил по утрам долго спать. Сережа, наоборот, вставал рано и часто развлекался тем, что будил Славу. Сначала Сережа подносил к славиному носу первый попавшийся под руку предмет. Слава, почувствовав какое-то неудобство и еще не проснувшись, отстранялся. После этого Сережа плескал ему в лицо холодной водой. Слава окончательно просыпался и, рассвирепев, кидался вдогонку за Сережей, чтобы ему наподдать. Слава любил всевозможные остроумные выходки и смеялся над ними. В том случае, который я описала, он одновременно и смеялся, и грозил Сереже своим огромным кулаком.
Эти утренние пробуждения, по-видимому, ярко запечатлелись в Славиной памяти. В 1980 году он мне написал из Праги: «... А сегодня ты мне снилась, представь себе: вошла ко мне и стала будить меня с барабаном, причем очень активно».
В те годы, когда Слава концертировал, он продолжал свои пешие прогулки по городам и их окрестностям и в нашей стране, и за границей. Славин близкий друг, чех Карел Старек говорил, что Слава изучил Прагу лучше коренных пражан. Однажды Слава шел по Лос-Анджелесу и к нему подошел полицейский и сказал, что опасно ходить пешком по городу: могут напасть бандиты. Действительно, Слава в тот момент был один на улице. (Американцы же не ходят пешком: они или на чем-нибудь едут, или бегают трусцой для укрепления здоровья).
С Карелом Стареком Слава подружился в конце 1950-х годов, когда тот был секретарем посольства Чехословакии и жил в Москве. Мы все, кто познакомились в то время с Карелом, полюбили его за доброту, искренность, сердечность, заботу о людях. Слава дружил с ним до конца своих дней.
***
Отец часто устраивал у нас музыкальные и литературные вечера. Слава и Толя играли современную музыку или на двух роялях разыгрывали оперы Рихарда Штрауса, симфонии Малера, а Слава и ученик отца Дима Гусаков – оперы Вагнера. (Слава утверждал, что Толя терпеть не мог Вагнера.) Однажды отец с Мироном Борисовичем Полякиным исполнили на одном из таких домашних вечеров Крейцерову сонату Бетховена. Приходил наш сосед Сергей Сергеевич Прокофьев, он обычно играл свои новые сочинения, а его жена Лина Ивановна, сидя в углу комнаты, шептала своей соседке: «Боже, как он колотит!»
Помню в такой же домашней обстановке исполнение Славой Пятого концерта Прокофьева. Толя Ведерников играл на втором рояле партию оркестра. Присутствовал Сергей Сергеевич, – стоя между двумя роялями, он дирижировал. Когда Слава и Толя кончили играть, Сергей Сергеевич сказал: «Молодцы!» – и подарил им по шоколадке. Вскоре Слава исполнял этот концерт с оркестром в зале Чайковского, а Сергей Сергеевич дирижировал. Это было в марте 1941 года.
В те дни впервые была у нас в гостях приехавшая из Одессы мать Славы – Анна Павловна Рихтер. По моим воспоминаниям, Слава обожал и отца, и мать. Помню, как-то зашел разговор о том, что в начале двадцатых годов люди жили бедно и не могли хорошо одеваться. Слава тогда с гордостью сказал: «А моя мама всегда красиво одевалась. Она сама шила платья».
Непременным участником наших молодежных сборищ была племянница моей мамы Вера Прохорова, в то время студентка Института иностранных языков, постоянно заботившаяся о родственниках и знакомых, нуждавшихся в помощи. Дружба Славы и Веры началась со дня их первой встречи у нас, в декабре 1937 года. В 1942 году, когда Славе стало опасно жить в нашей квартире, Вера и ее семья (мать и сестра) пригласили его переселиться к ним. Слава жил у Веры до 1946 года.
В августе 1950 года Веру арестовали. Слава предупреждал Веру, что ее близкий друг – опасный человек, может на нее донести. Она не верила и говорила с этим человеком обо всем с полной откровенностью. Увы, в тюрьме Вера убедилась, что Слава был прав. Вернувшись через шесть лет в Москву, она спросила Славу, откуда он знал, что этот человек – доносчик. Слава ответил, что он ничего не знал, но ему так казалось.
В сентябре 1950 года Слава послал ей поздравительную телеграмму по случаю именин. Адрес он написал так: «НКВД. Тюрьма. Вере Прохоровой». Следователь прочел Вере текст телеграммы: «Поздравляю, целую. Слава». Веру обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 10 годам лагерей строгого режима. Помню, как Слава волновался за Веру и очень хотел навестить ее в лагере, но в то время свидания не разрешались. Известно, что человеческий характер ярко проявляется в экстремальных условиях. Вера вела себя в лагере самым достойным образом. Как свидетельствовала ее лагерная приятельница, Вера была эталоном чести. В 1955 году Верин друг, писатель Юрий Нагибин организовал ходатайство о Вериной реабилитации. Помню, это ходатайство подписали: Ю.М.Нагибин, Г.Г.Нейгауз, С.Т.Рихтер, Б.Л.Пастернак, И.Р.Шафаревич. В 1956 году Вера была реабилитирована и вернулась в Москву.
Дружба Славы и Веры продолжалась до конца его дней.
С математиком Игорем Шафаревичем всех нас, и Веру в том числе, познакомил Слава. Мать Игоря, музыкант, в молодости жила в Житомире и была ученицей Славиного отца Теофила Даниловича и близкой подругой Славиной матери Анны Павловны и ее сестры Тамары Павловны Москалевой. Когда Слава приехал в Москву в 1937 году, четырнадцатилетний Игорь уже учился на механико-математическом факультете Московского университета. В студенческие годы Слава много общался с Шафаревичами, не раз приводил Игоря к нам в гости. Игорь же особенно подружился с Верой и ее семьей. Впоследствии Шафаревич стал выдающимся математиком, известным во всем математическом мире.
Много горя принесла нашей семье, как и большинству семей, война. Во время бомбежек Москвы папа, Слава и Вера Прохорова дежурили на крыше нашего дома: сбрасывали вниз зажигательные бомбы, предотвращая взрыв здания. А меня папа непременно загонял в бомбоубежище.
11 октября 1941 года папа написал в письме: «...Толя и Слава чудно играют. На молодежь война все-таки не так действует, как на меня, старика. Недавно состоялся мой «доклад» в ВТО о Шимановском, потом играли я, Толя и Слава. Слава играет гениально. 19-го октября будет его концерт в Малом зале». Этот концерт не состоялся – после московской паники 16 октября все концерты были отменены.
4 ноября 1941 года папу арестовали. В ордере на арест (позднее мне удалось его прочесть) написано, что причина ареста – отказ от выезда в эвакуацию. Папа стремился уехать в эвакуацию (оба его сына уже были эвакуированы: Адик с начала сентября лежал в туберкулезном санатории в городе Нижний Уфалей на Урале, Стасик с начала июля был с матерью в Чистополе), но мама отказалась ехать, так как больная бабушка не перенесла бы дороги (бабушка умерла в ноябре 1942 года). Папу обвинили в том, что он ждал немцев. На первом же допросе папа сказал, что он не мог их ждать, так как он противник гитлеровского режима.
Для всех нас и для Славы папин арест был тяжелейшим ударом. Естественно, мы знали, что папа ни в чем не виноват. Но мы также знали, как невинных людей арестовывали, и большинство из них уже не возвращались. Многие друзья (в том числе и папины ученики) помогали нам в то время. Мы жили в большом горе и волнении за папу.
В нашей квартире опечатали одну комнату. С этого момента в комнате с двумя роялями жили Слава, Сережа и бабушка, а я переселилась к маме. Слава по-прежнему жил у нас. Он один в нашей семье в то время зарабатывал деньги – выступал в сборных концертах, часто играл на радио. Все деньги он отдавал моей маме. Несмотря на это, и мы, и Слава всегда были голодными.
19 июля 1942 года папа был выпущен из тюрьмы. Вся наша семья, включая Славу, почувствовала себя счастливой. Папа прожил дома три недели, а затем был отправлен в ссылку в Свердловск.
В сентябре вновь открылась Московская консерватория. Слава числился студентом пятого курса. Помню, как Славе звонили из консерватории и уговаривали поступить в класс Оборина или в какой-нибудь другой класс. Слава ответил категорическим отказом и сказал, что он ученик Нейгауза.
Зимой 1942-1943 года Слава начал давать сольные концерты. Помню один из таких концертов в зале Чайковского, куда я привела целую группу своих школьных подруг. Мы сидели в первых рядах в полупустом холодном зале в своей неказистой одежде (другой у нас в то время не было). В том концерте Слава исполнил две сонаты Бетховена (11-ю и 17-ю) и «Симфонические этюды» Шумана.
Помню, как Слава говорил, что «Симфонические этюды» – это вершина фортепианного творчества и даже трудно представить себе, как человек мог создать такое совершенство. Кто-то тотчас добавил, что рихтеровское исполнение «Симфонических этюдов» – это тоже верх совершенства.
Летом 1944 года Слава вместе с Игорем Шафаревичем принимал участие в Альпиниаде, посвященной 20-летию советского альпинизма. Она проходила на Кавказе в альпинистском лагере «Алибек». Слава вместе со всеми ходил в походы по горам, наслаждался красотами природы, переходил вброд горные реки, жил в палатке, варил кашу на костре, в это же время он прошел пешком через Клухорский перевал до Сухуми, где кто-то его спросил, не родственник ли он пианиста Святослава Рихтера, и Славу этот вопрос очень развеселил.
Папа вернулся в Москву осенью 1944 года. В день его приезда к нам в гости пришли Стасик, Слава, Толя и многие ученики и друзья. Хорошо помню Славино счастливое лицо, когда он обсуждал с папой последние музыкальные новости.
К тому времени Слава еще не закончил консерваторию: насколько я помню, он не сдал экзамена по марксизму. На обложках пластинок со Славиными записями изложена его краткая биография, где, в частности, написано: «Святослав Рихтер поступил в Московскую консерваторию в 1937 году и блестяще ее окончил в 1947 году». Действительно, Слава сдал экзамен по марксизму только в 1947 году.
Папа написал в письме в феврале 1945 года: «...С «кафедрой» (скоро таковых, к счастью, больше не будет) встречаюсь регулярно по средам, обычно у Мили Гилельса, и музицируем рьяно. Бывают: Миля, Яша Зак, Тося Гутман, Слава Рихтер, Толя Ведерников [...]. Из музыкальных явлений и впечатлений в Москве все-таки самое отрадное и крупное – это Слава. Чем больше его узнаю, тем больше его люблю и восхищаюсь им. Это именно то, что «потом» называют гением, а вначале «стесняются». Признание и успех его неслыханный и самой высокой пробы. А наряду с этим – за сольный концерт в Большом зале получает по ставке триста рублей. Красиво? Бытовые условия отвратительные: ни собственной комнаты, ни рояля. Играет у друзей, на ходу готовит все новые и новые программы. Не только талант его, но и энергия – поразительны. К тому же, что и должно было быть, – это человек кристальной души и настоящего прирожденного благородства – нет в нем ни одной мелочной и пошленькой черточки».
Затем папа написал в письме в октябре 1947 года: «А в четверг был такой чудесный концерт Рихтера с Дорлиак (он только «аккомпанировал»), что всю ночь не смог глаз сомкнуть от волнения и радости. Его гениальность все очевиднее. (Я-то о ней знал после 15-минутного знакомства с ним). Все мы как-то растем из земли ввысь – некоторые из нас очень высоко растут, но он прямо с высоты спускается на землю. Какие вы счастливые, что будете его сейчас много слушать!»
Устраивались у нас и студенческие вечера. Приходили папины ученики и другие музыканты. Сначала все хотели, чтобы играл Слава, и он играл. Затем начинались забавы: Олег Бошнякович с удивительным мастерством свистел, аккомпанируя себе на рояле, а после застолья педагог консерватории Кира Алемасова плясала на крышках двух роялей под полонез Шопена в папином исполнении.
Слава дружил с Кирой Алемасовой со студенческих лет и до конца жизни. Кира была очень талантливым человеком с бурным темпераментом. Она не только превосходный музыкант, но и литератор: писала либретто для детских опер, юмористические стихи. Она сочинила, например, для каждой буквы алфавита четверостишия, в которых каждое слово начиналось с этой буквы: остроумнейшие, лихие стихи. На любом празднике Кира с невероятным азартом пела залихватские песни под свой аккомпанемент на рояле. Кира регулярно писала Славе письма как в прозе, так и в стихах, чем его очень веселила. Слава всю жизнь с большой теплотой относился к Кире.
***
В детстве я думала, что Слава – самый умный человек на Земле. За свою долгую жизнь я была знакома со многими выдающимися людьми, но так и не изменила своего мнения. Из широко известных людей, с которыми я была знакома, могу поставить с ним в один ряд только Андрея Дмитриевича Сахарова и Бориса Леонидовича Пастернака. Слава прекрасно понимал людей: их настроения, горести, радости. Он искренне сочувствовал людям, которые жили трудно, были несчастны, старался им помочь.
Карел Старек написал мне в декабре 1990 года: «Я опять вместе со Славой и очень счастлив. Он все время думает о других и хочет, чтобы они жили хорошо. [...] Мы заботимся о Вас. Как будет с Вами всеми?»
Слава никогда ни на кого не кричал, невозможно себе представить, чтобы Слава мог кого-нибудь оскорбить или ударить. Я помню два случая, когда Слава на меня рассердился (конечно, он был абсолютно прав). Он не повысил голоса, он просто перестал со мной разговаривать и ушел. Но он не был злопамятен. Через несколько дней он пришел такой же ласковый, любящий, как всегда.
Если какой-то человек совершал, по мнению Славы, неблаговидный поступок, Слава переставал с ним общаться, исключал его из круга своих знакомых.
Слава был очень строг: предъявлял высокие требования и к своей игре, и к игре любого музыканта, терпеть не мог халтуру, недобросовестность.
Он написал мне в марте 1994 года из Токио: «Вчера играл три концерта Моцарта, и в конце мы бисировали последнюю часть. Играю, и ушам своим не верю – вся музыка не та: оказывается, ушли половина духовых. Я бешено обозлился».
Генрих Густавович на аналогичную ситуацию реагировал по-другому: он написал в письме в декабре 1949 года о своем концерте: «Играл неплохо, только оркестр и дирижерша в 5-ом концерте Бетховена подфунили. Все время играл сам за валторну, фагот и т.д.»
Известно, что Слава никогда публично не высказывался о политике. Политика его действительно не интересовала. Но он ненавидел несправедливости и насилия. Я знаю три случая, когда он всерьез воспротивился насилию.
Весной 1969 года Слава согласился дать концерт в Праге. Он должен был приехать туда из Вены. Он попросил администратора, чтобы за ним приехал из Праги Карел Старек на машине. После долгих переговоров с Прагой администратор сообщил, что это невозможно. (В августе 1968 года советские войска захватили Чехословакию, Карела уволили с работы и власти не разрешали ему выезжать из страны). Слава ответил, что в таком случае он не поедет в Прагу. На следующий день Рихтеру сообщили, что Карел приедет – он действительно приехал, и концерт в Праге состоялся. Я думаю, что Слава решил приехать в Прагу именно для того, чтобы чем-то помочь Карелу.
В декабре 1973 года был объявлен концерт в Москве в Большом зале консерватории, в котором С.Рихтер, Д.Ойстрах и М.Ростропович должны были исполнить тройной концерт Бетховена. За несколько дней до концерта Славе сообщили, что вместо Ростроповича будет играть Даниил Шафран (власти не разрешили Ростроповичу играть в Большом зале). Рихтер и Ойстрах сразу же отказались играть. В результате концерт состоялся, и играли С.Рихтер, Д.Ойстрах и М.Ростропович.
В начале 1980-х годов Слава давал концерт в Горьком. Он попросил администратора оставить два билета для академика Сахарова. После долгих выяснений администратор сообщил, что это невозможно. Слава сказал, что он не будет играть. Концерт состоялся, и А.Д.Сахаров с женой сидели в партере. Кстати, очевидцы мне потом рассказывали, что все откидные места в партере были заняты сотрудниками КГБ.
Славе нравилось все, что было, по его мнению, красиво. У него был зоркий глаз художника и безупречный вкус. Папа написал в письме в 1957 году: «На днях Слава Рихтер показывал у Анны Трояновской шестьдесят своих пастелей. Мы были в восторге. Он гениален и в этом [...]».
В поздние годы, когда я приходила к нему в гости, он оглядывал меня и иногда говорил: «Красиво!» Мне кажется, что Слава был глубоко ранимым и беззащитным перед хамством и грубостью человеком, нуждался в любви людей, особенно тех, кого он сам горячо любил. Его травмировало малейшее проявление невнимания со стороны близких ему людей. Всем, кто его любил, он был искренно благодарен, нежно любил их и оказывал им всяческие знаки внимания.
Слава был щедр. В конце 1960-х годов у моего брата Стасика (пианиста Станислава Нейгауза) обнаружилось профессиональное заболевание руки. Стасик играл с большим трудом. Врачи сказали, что нужна операция, но в СССР такие операции не делали. Нужно было ехать в Париж, но у Стасика не было на это денег. Слава полностью оплатил операцию и лечение, чем спас Стасика как пианиста.
Многим друзьям Слава привозил подарки, выбранные с удивительным вкусом – он с редкой прозорливостью угадывал, какая вещь доставит данному человеку наибольшую радость. Никогда не случалось так, как описал мой папа в письме: «Подарки получил замечательные: от учеников книги, сверхъестественный торт, 3 бутылки ликера, которого не пью, 200 штук «роскошных» папирос, которых не курю [...]».
Вера Ивановна Прохорова до сих пор носит элегантное пальто, которое ей подарил Слава, я же сейчас пишу эти слова паркеровской ручкой, которую мне когда-то подарил Слава.
Папа написал в письме в июне 1963 года: «Вчера был у нашего Парсифаля, Славы, он уезжает сегодня до конца июля, потом несколько дней будет в Москве, затем сразу Швейцария, ГДР, Париж, Лондон etc. Жаль, что не буду его видеть».
А в январе 1964 года папа написал Славе: «Славочка, дорогой! После вечера у Вас – 5-я Соната Скрябина – не могу отделаться от мысли, что все мои «высказывания» (печатные и ненапечатанные) о Тебе – страшный вздор – не то! Прости! Мне бы следовало лет 50 писать, «набивать руку», чтобы написать о тебе хорошо и верно. Целую, твой, твой, твой Г.Нейгауз».

Андрей Андреевич Золотов.
(К 85-летию со дня рождения пианиста)
"Рихтер - это путь"
Это было не просто явление искусства. Это было художественное явление жизни, одно из удивительных проявлений художественного начала в ней самой. Есть жизнь, в жизни люди ходят на концерты, на которых выступают артисты, это реальный пласт жизни. Но есть еще тайные пласты. Можно их назвать божественными, художественными... Это то, что в жизни потрогать нельзя, можно ощутить, можно найти что-то созвучное в самом себе. Но без этого жизнь не состоятельна, она не полна... Рихтер символизировал это божественное художественное начало.
Я думаю, что Рихтер - явление совершенно уникальное во всем, но понять его нельзя вне искусства. Рихтер был человеком идеального сознания, и при этом он прошел совершенно реальную трудную жизнь, с жизненными трагедиями того времени, той страны, в которой он жил. У него была русская мать и немец отец, учившийся в свое время в Венской консерватории. Рихтер говорил, что его педагог в Московской консерватории Генрих Нейгауз чем-то напоминал ему отца.
Рихтер был очень трогательный человек в своих привязанностях. Он никому и никогда не сделал вреда, ни о ком не сказал плохо. Он сознавал свой авторитет, но никогда им не пользовался. Более того, он не давал никому права использовать его.
Необычайность Рихтера ощутили все. В моем фильме "Хроника Святослава Рихтера" есть два существенных фрагмента - беседы с выдающимися зарубежными пианистами Артуром Рубинштейном и Гленом Гульдом о Рихтере. Рубинштейн рассказывал о том, как он услышал Рихтера в Америке и был поражен тем, как он исполняет музыку Скрябина, Равеля...
Во время первых гастролей Рихтера в Америке свой восторг выразила и педагог Вана Клиберна, в прошлом выпускница Московской консерватории, профессор Розина Левина. "Это был поистине великий день моей музыкальной жизни. Редко своды "Карнеги холла" слышали что-то подобное. Святослав Рихтер - это прежде всего яркая и неповторимая индивидуальность. Слушая его, я все время ловила себя на мысли, что присутствую на исключительном явлении 20 века".
Менее подготовленные слушатели любили Рихтера потому, что ощутили чистоту и поразительную правдивость, которая не могла не затронуть их сердце. В нем ощутили тайну и в то же время простоту, они услышали в нем музыку, как таковую.
Ведь Рихтер обладал поразительной способностью отрешиться от рояля, казалось, что он ни на чем не играет. У него музыка исходила не от нажатия клавиш, как у других, она снисходила с небес. Рихтер ее вызывал. Рихтер обладал и гипнозом, при этом не гипнотизируя. Не было никаких приемов гипноза, пожалуй, только потирание рук перед игрой, но и это бывало не всегда. Иногда он выбегал и буквально сразу бросался к клавиатуре...
20 век вобрал в себя новейшие открытия, новейшие проблемы и еще сохранил память о предыдущих веках. Я думаю, что именно искусство Рихтера это воплощает. В нем есть ясность мыслей и удивительная эмоциональность, которая носит характер содержательный. Это эмоции целого века.
Рихтер - это колоссальное достоинство, независимость, полная свобода, личная, внутренняя. И, наконец, главное, что я хочу сказать. Быть может, это кому-то покажется парадоксом. Я написал еще в 1955 году, что Рихтер - это не пианист, что это - музыкант, мыслитель, философ, поэт, кто угодно, но высказывался он, играя на рояле.
Рихтер - это колоссальное человеческое явление, рожденное для музыки. Рихтер ведь и сочинял немного, по крайней мере импровизировал, но он закрыл этот дар в себе. Ибо вокруг него было столько музыки, и он любил ее больше, чем самого себя.
Такая же история произошла и с другим великим музыкантом, который был с Рихтером в теплых отношениях - это известный дирижер Евгений Мравинский, который был профессиональным композитором, однако, встретившись с музыкой Шостаковича, он свою музыку отложил, но в исполнение Шостаковича вложил всего себя.
Рихтер - это величайший пианист.
У известного русского поэта Александра Блока в его "Записных книжках" есть потрясающая запись о том, что Россия для него - это лирическая величина. Думаю, что для Рихтера Россия также была лирической величиной, а для России Рихтер - это лирическая величина.
Рихтер - явление культуры мира, но это никак не противоречит тому, что это явление русской культуры.
Он был русский артист, русский человек, но очень по-немецки организованный. Соединение стихийности и организованности - как две ипостаси жизни...
Подражать Рихтеру бессмысленно, но Рихтер - это путь к музыке, к искусству, к пониманию музыки, как части всей жизни. Следуя по пути Рихтера, можно прийти к очень большим результатам.
(К 85-летию со дня рождения пианиста)

В.Ванслов.
«Музыкальная жизнь», 2005, №6.
СЛУЧАЙ из жизни
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
Этот случай мне рассказал певец и оперный режиссер Нияз Даутов. Читатели могут его вспомнить по старому фильму «Сильва», вышедшему на экраны еще во время войны, в 1944 году, где Даутов исполнял роль Эдвина – коронную роль опереточных теноров, хотя он был тогда только студентом Московской консерватории. В те времена в консерватории учился у Г.Г.Нейгауза и Святослав Рихтер, и они с Даутовым очень дружили. Рихтер ценил его не столько за талант, достаточно скромный, сколько за человеческие качества: Даутов был очень душевным, добрым и порядочным человеком. После окончания консерватории Даутов уехал в родную Казань, где долгое время был премьером оперного театра, а затем стал оперным режиссером.
Во время работы в 1960-е годы во Всероссийском театральном обществе я часто бывал в Казани, смотрел и рецензировал спектакли оперного театра и познакомился с Даутовым. У нас сложились очень хорошие отношения, я бывал у него дома, несколько раз мы встречались в Сочи, в санатории ВТО «Актер» и много разговаривали.
Дружба Даутова с Рихтером продолжалась, и больше всего о ней свидетельствует то, что Даутов, когда бывал в Москве, всегда останавливался у Рихтера на квартире. Он много мне рассказывал о Рихтере, называя его ласково Славочка, и однажды поведал мне о следующем, отчасти забавном, но очень показательном и для характера, и для гениальности Рихтера случае.
В очередной раз Даутов гостил в Москве на квартире у Рихтера. И как раз в это время Сергей Сергеевич Прокофьев написал свою новую сонату для фортепиано (кажется, это была Седьмая или Девятая соната, но точно какая именно, сейчас не помню). Он попросил Рихтера впервые исполнить ее в концерте. Рихтер, необычайно уважавший и ценивший С.С.Прокофьева, конечно, согласился, и за неделю до концерта получил от композитора рукописные ноты. Он принес их домой, положил на рояль и куда-то исчез (как выяснилось потом, уехал на дачу к друзьям).
Даутов живет на квартире у Рихтера один, приближается день концерта, по всему городу расклеены афиши, а Рихтера нет. Даутов начинает беспокоиться, а Рихтера всё нет и нет. Неужели будет сорван концерт, да не состоится еще и премьера сонаты Прокофьева, человека чрезвычайно гордого, самолюбивого, и, по общим свидетельствам, необычайно точного, всегда требовавшего точности и от других.
Наконец, накануне концерта Рихтер появляется и говорит Даутову: «Ну, Нияз, ты пойди погуляй часок, а я немного позанимаюсь». Даутов уходит, гуляет, через час возвращается, и Рихтер ему уже играет наизусть первую часть сонаты Прокофьева.
На следующий день состоялся концерт, Рихтер блестяще сыграл всю сонату, и Прокофьев был в восторге. При этом композитор говорил: «Вы подумайте, какой гениальный человек Рихтер, он всего за неделю выучил и великолепно сыграл мою труднейшую сонату». А Рихтер на самом деле выучил ее не за неделю, а за одни сутки. Вот такой он был действительно гениальный художник.
В. ВАНСЛОВ

А.А.Золотов.
29.07.2006.
"Письмо о Рихтере. Годы странствий в облаках вечности"
«...Никогда еще перед нами так стихийно не обнажалась душа гениального человека». Стендаль, «Письмо о Моцарте». Монтичелло, 29 августа 1814 года
Пишу Письмо. О Рихтере. Кому?
Время от времени я сам получал рихтеровские письма. Иногда в ответ на мои послания. Иногда – безо всякого внешнего повода. Я мало ему писал – боялся его тревожить, берег свет личного общения, ждал его концертов (это было для меня самое главное).
Волновался при каждой встрече. Разговоры, беседы, прогулки, чаепития, посещения концертов (не его) и театров, скромное участие в подготовке его домашних выставок, слушание музыки в рихтеровском домашнем зале, сочиненном (и в Брюсовском, и на Бронной) из двух комнат, – все было сказочной действительностью, но также и реальностью моего отдельного существования в художественном мире.
И вот 1 августа 2000-го, День Рихтера. Три года без Рихтера. Я в Риме. Совершал паломничество к тем городам-святыням Италии, где был вместе со Святославом Теофиловичем, слушал его игру и говорил с ним; и еще к тем городам, о которых он мне много рассказывал, где он бывал, играл, через которые проезжал. – Леонардовский, вердиевский, стрелеровский Милан. Джоттовская и петрарковская Падуя. Палладиевская Виченца. Вагнеровская и гольдониевская Венеция. Флоренция Брунеллески, Чайковского, Достоевского. Воспетая Александром Блоком, упокоившая Данте Равенна. Небесное Азоло, осененное трагической тенью Элеоноры Дузе. Альпийский маленький Фельтре, хранящий в себе старинный чудесный театр – живую реплику венецианского «Фениче», еще не восставшего из пепла. Гоголевский, микеланджеловский Рим.
В высоком просторе его храмов, домов и улиц – живое дыхание Александра Иванова и Карла Брюллова, Китса и Шелли, Бизе, Берлиоза, Листа; живое дыхание игры Святослава Рихтера, его мировое вечное Присутствие – русского Странника, «пианиста века» и вовсе не пианиста – абсолютного творения богоделанной одушевленной Природы, возлюбившей этого дивного и странного Человека и слившейся с ним в художественном претворении земли и неба.
Он исполнил свою миссию Художника. Он величественно, великодушно и просто свершил свой человеческий путь. Его «годы странствий» в облаках вечности – в облаках вечной музыки и незримо живых творцов ее – явили нам иной мир искусства: человек стал здесь сомасштабен самой художественной реальности, он был включен в нее полностью, всем существом, всем сердцем. Оставаясь Автором своей судьбы, он становился объективной художественной величиной и ценностью, вне зависимости от изначальной своей природной художественной наполненности. Он возвышался здесь до недосягаемой Реальности иллюзорного художественно воссозданного мира, познавая в самом себе истинное счастье «сотворения энергии» в сопричастности «музыке бытия» – рихтеровскому волшебному миру.
Волшебный мир жил при этом по очень сложным, бесхитростным, прямодушным, нигде не прописанным, но обязательным для исполнения внутренним законам. Волшебник следовал своим законам неукоснительно. То были законы, им самим над собою поставленные.
Теперь сознаешь до конца (и раньше догадывался, даже понимал, но не было этого «до конца»), что рихтеровский Закон проявлял самое существо искусства. Рихтеровский Закон, в сущности, для всех, кто в состоянии его понять, принять и сделать своим, воссоединившись с природой искусства, его объективной животворящей субстанцией, его правдой, рождающей вымысел.
Пишу «Письмо о Рихтере», и знаю кому. Младшему сыну, который родился при Рихтере, но его не слышал. Всем тем, кто его не слышал, но станет слушать. Тем, кто, слушая Рихтера, задавался вопросом: «Что же такое Рихтер?…» Я среди них. И выходит, «Письмо о Рихтере» пишу самому себе.
Или, может быть, самому Рихтеру? Может быть, самое время было бы назвать эти мои мысли-воспоминания просто «К Музыке»?
...В 1964 году Святослав Теофилович впервые в Москве сыграл с оркестром Московской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина фортепианный концерт Эдварда Грига, и в «Известиях» появилась моя рецензия. Она вызвала интерес, последовали отклики. С разных сторон. Но не от Рихтера.
Через какое-то время мы неожиданно встретились в филиале Художественного театра на улице Москвина на спектакле английской труппы «Король Лир» в постановке Питера Брука с Полом Скофилдом в заглавной роли. По случайному совпадению мы одновременно вошли в зал из противоположных дверей и увидели друг друга. Через секунду пошли друг другу навстречу. Поравнявшись в центре зала, остановились (я ощутил на себе его какой-то «включающий» взгляд, словно он проверял и меня и себя на «правду»). Рихтер протянул руку (всегда, и до этой встречи, и после, когда случалось здороваться с Рихтером за руку, казалось, что твоя собственная рука становится соразмерной его большой, простых очертаний необычайной руке). Пауза длилась. Наконец он произнес тихо и внятно, только мне одному (вокруг было много людей): «Я прочитал вашу статью. Спасибо. Только было бы лучше, если бы вы написали мне об этом письмо...»
Много было у нас разговоров со Святославом Теофиловичем, много лет протекло в общении с его музыкой, но этот разговор на «Короле Лире» – его и диалогом назвать нельзя, говорил только Рихтер – всегда помню. Помню, что он хотел получить Письмо...»
Никак не могу с ним «расстаться». Понимаю, что образ его будет жить во мне столь долго, сколько мне самому отмерено дышать, и мыслить, и чувствовать. Сознаю, что мысли мои о Рихтере – о «творчестве и чудотворстве», в которых претворен он сам, будут длиться и будут длить живое вдохновенное состояние, рожденное его игрой, его присутствием в мировой художественной среде, его божественным «звуковидением» (как у Николая Клюева: «...Я видел звука лик, и музыку постиг»).
Но расстаться с ним-живым – не могу. Все перед глазами – пережитое и виденное наяву. Все в смятеньи «гармонических октав». И, как некогда волны воспоминаний у Пастернака, – «они звучат в миноре…»
В пастернаковском «Августе» есть точно «рихтеровские» (будто его характеризующие) строки: «Прощай, размах крыла расправленный, / Полета вольное упорство, / И образ мира, в слове явленный…»
Если о Рихтере, то в слове-звуке, звуке – воплощении истины.
Евгений Александрович Мравинский (горячо почитавший Святослава Рихтера, тяготение их друг к другу было взаимным и бесконечно искренним) доверил мне однажды свою дневниковую запись: «Есть какие-то переходные мгновения, когда ушедшее еще не стало полностью прошлым. Есть кадры бытия, хоть исчезнувшие, но еще зримые, осязаемые и существующие в какой-то своей реальности...» Вот, может быть, разгадка. В год 85-летия Святослава Теофиловича, в год 20-летия его «Декабрьских вечеров», в последний год XX столетия мы, оставшись без Рихтера, переживаем, изживаем это переходное мгновение, когда ушедшее еще не стало полностью прошлым. Рихтеровские «кадры бытия» зримы, осязаемы и существуют в какой-то своей реальности.
2000-й – Начала и Концы, предвестье новых бед и вдохновений. В нем не хватает Рихтера. Он всё и всех включил бы в свое пространство вещее, пространствовав в таких высотах, где облака из вечности...
В солнечной голубизне римского первоавгуста рихтеровские облака с высоты купола собора Святого Петра кажутся досягаемыми взгляду и внутреннему взору. Я поднимался сюда сегодня, держа за руку своего восьмилетнего сына. Я не первый раз в Риме, но впервые поднялся на самый купол – тот самый купол Микеланджело, с которым сравнивал Генрих Густавович Нейгауз голову Рихтера: «В его (Рихтера) черепе, напоминающем куполы Браманте и Микеланджело, вся музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках рафаэлевской мадонны».
С высоты Святого Петра, с высоты, рождающей дивное ощущение близости рихтеровской тайны, открывается вечный город в его иллюзорной реальности прекрасного далека, целостности и прекрасном удалении от каждодневности. И еще открывается какая-то дивная запредельная даль, вбирающая в себя вечный город и простирающаяся в вечные пределы.
И рихтеровское искусство открывало нам запредельные, вечные просторы, раздвигало пределы искусства. Оно было погружено в вечную жизнь. Оно устремлялось в облака вечности и двигало этими облаками.
Сегодня в полдень здесь, неподалеку от Святого Петра я беседовал (в его очень римской и очень московской мастерской) с давним другом своим, одним из самобытных учеников Генриха Густавовича Нейгауза, талантливым пианистом, известным музыкальным деятелем Валерием Воскобойниковым (он давно живет в Риме). Мы говорили о Рихтере. Мы специально условились встретиться именно в День Рихтера – 1 августа. Валерий рассказал поразившую меня историю. Какой магической загадочности и силы эта история! Он рассказал мне – и с его любезного позволения я привожу здесь эту историю-факт, – как однажды, во время гастролей в Риме Эмиля Григорьевича Гилельса, он показывал великому пианисту город. В какой-то момент они оказались перед собором Святого Петра. Вокруг никого не было. И Гилельс неожиданно произнес: «Скажите, Валерий... Вот мы стоим сейчас в святом месте. Скажите мне как на духу, какое сочинение вы хотели бы сейчас услышать в исполнении Рихтера?»
Я был сражен этим рассказом. Можно по-разному пытаться его интерпретировать. Для меня важна одна интерпретация: сколь магически и сколь возвышенно воздействовала личность Рихтера и его искусство на всю окружающую художественную жизнь.
Я тотчас же вспомнил, как однажды сам спросил у Святослава Теофиловича, почему он не играет все пять концертов Бетховена и ограничивается Первым и Третьим. Он заметил в ответ, что автор не предусмотрел непременное исполнение этих концертов циклом, все пять сразу. Что это разные сочинения. Что, конечно, можно играть и все пять кряду, исходя из высоких культуртрегерских соображений. Но он сугубо культуртрегерские цели себе не ставит. И прибавил: «К тому же, Пятый концерт лучше Гилельса сыграть невозможно»...
Многое может быть рассказано и написано на темы «Рихтер и художественная среда», «Рихтер и пианисты». Интересно и сложно рассуждать об этом. Вспоминаю, как выдающийся пианист, профессор Яков Флиер где-то в 70-х годах после длительного перерыва возобновив свою исполнительскую деятельность (она была прервана из-за болезни руки), приехал с первыми (по возобновлении) концертами на международный знаменитейший фестиваль «Пражская весна», где, кстати, очень любил играть Святослав Рихтер и где мне доводилось его слушать (Прага обожала Рихтера, и любовь была взаимной). Мы жили с Флиером в одной гостинице – «Эспланада». В ответ на выражение моей радости, что вот, мол, возобновляется концертная жизнь выдающегося пианиста, Яков Владимирович, любивший и умевший пошутить, сказал: «Вы еще не знаете другой моей радости. Перед самым отъездом в Прагу я был у Екатерины Алексеевны Фурцевой и выбил себе такую же ставку, как у Рихтера!» Мы оба засмеялись. Но и тогда, и сейчас я думаю о том, каким же магнитом был Рихтер для внутреннего творческого существования даже самых выдающихся мастеров отечественного, да и мирового искусства.
С ним нельзя было сравниться. Но с ним соизмерялась и художественная, и человеческая нравственная линия жизни в искусстве, – прочтите внимательно высказывания о Рихтере Артура Рубинштейна, Глена Гульда, Евгения Мравинского, Ренато Гуттузо из моего с режиссером Святославом Чекиным документального фильма «Хроники Святослава Рихтера» – и вы все поймете, все почувствуете. А вот еще – из того же фильма – важное наблюдение. Великий немецкий певец Дитрих Фишер-Дискау:
«Мне посчастливилось познакомиться со Святославом Рихтером около 20 лет назад на спектакле оперы Вагнера, в которой я исполнял одну из партий. И первое, что меня тогда поразило, это то, что мы беседовали с ним об оратории Шумана, и он тут же сел за рояль и исполнил увертюру из этой оратории наизусть. Это было тем более поразительно, что едва ли в Германии найдется сейчас человек, который мог бы вспомнить эту ораторию.
Наша следующая встреча произошла почти через 10 лет, когда мы вместе участвовали в фестивале в Олдборо в Англии. На этом фестивале мы вместе с Рихтером исполняли цикл песен Брамса. Мне было очень приятно и почетно выступать с таким выдающимся мастером. Что при этом особенно бросается в глаза в его манере исполнения: он очень тонко и с полной самоотдачей подстраивается под партнера; вместе с тем полностью сохраняет свою индивидуальность и личность музыканта и при этом единолично ведет выступление.
Я счастлив, что, несмотря на свои многочисленные обязанности, он находит все же время, чтобы работать со мной. Я считаю, что Святослав Рихтер представляет собой сплав романтической манеры исполнения с аналитическим пониманием музыки. В отличие от того, с чем мы сталкиваемся на каждом шагу сегодня. Он достиг безусловного всемирного признания. И едва ли найдется в мире другой такой органичный музыкант…»
Но возвращаюсь мысленно в Прагу. Тогда Яков Флиер, все в той же шутливой манере, высказал мне одно весьма выразительное суждение о воздействии рихтеровского искусства на публику. Зная, как я отношусь к творчеству Рихтера и как пристально слежу за его концертами, Яков Владимирович заметил: «Вы должны понять, что Рихтер может ведь и не играть. Это я должен готовиться к концертам и думать о том, чтобы они прошли успешно. А Рихтер – он может и не играть. Если завтра объявят, что Рихтер будет забивать гвозди в крышу консерватории, все равно соберется народ. И все будут смотреть, как он это делает. Нет, ему играть не обязательно. Это мне нужно играть...»
Замечательно, как в этих шутливых, но проникнутых смыслом и внутренним переживанием суждениях проявилось острое ощущение рихтеровской магии, рихтеровского таинства. При этом не прозвучала нота «соревновательности». Большие мастера внутренне сознавали, что с Рихтером нельзя и не нужно соревноваться.
Он же никогда не позволял себе ни о ком из коллег сколько-нибудь уничижительного, обидного суждения. О всех говорил высоко или не говорил ничего.
Уважение к коллегам, уважение к людям искусства было присуще Рихтеру в той же полноте, целостности и красоте, в какой было ему присуще все связанное с его собственным художественным существованием в реальной жизни, включая его существование в искусстве, которое эту жизнь определяло, возвышало и в то же время делало недосягаемо простой, недосягаемо понятной, недосягаемо близкой и родной.
Рихтер был тем художником, которого любили или не любили, – однако непременно сознавая и ощущая внутреннюю естественную потребность в идеальном представлении о прекрасном. Я всегда говорил себе и тем, кто хотел это услышать, что Рихтер является для меня идеальным воплощением человеческой красоты, человеческого совершенства и человеческих возможностей.
Рихтер был для многих из нас символом веры и событием нашей художественной жизни. Вспомним еще одну, не столь знаменитую, как сравнение рихтеровского черепа с куполами Браманте и Микеланджело, довольно горькую на сей раз фразу Генриха Густавовича из его предисловия ко второму изданию книги «Об искусстве фортепианной игры». Отвечая на упреки (лучше сказать – нападки) в связи с первым изданием его книги – со стороны известного петербургского, в ту пору ленинградского, музыковеда профессора Баренбойма, сильно критиковавшего Нейгауза за слишком, как тому казалось, пристрастное отношение к Рихтеру, Генрих Густавович с гордостью и внутренним гневом ответствовал своему оппоненту: «По поводу «назойливого» упоминания о Рихтере.
Позволю себе напомнить, что моя книжка – не официальный отчет, не доклад должностного лица, чьи оценки и характеристика должны оставаться в рамках мудрого «равновесия». То, что я написал, – прежде всего личное высказывание. Каждому, даже самому скромному писателю дозволено иметь свои увлечения, тем более если он может доказать, что они имеют серьезные основания. Я это могу сделать, но не буду утомлять читателя. Рихтер стал, в силу особенностей его дарования, неким важнейшим событием моей музыкальной и педагогической жизни. Неужели этот факт я обязан скрывать, замалчивать или прятать его под маской благонамеренной мнимой объективности?»
Нейгауз был убежден, что «самое высокое и есть самое доступное». Его убеждение выросло из его понимания искусства Рихтера (он высказал эту формулу в одной из своих статей о Рихтере, опубликованной в «Известиях» и написанной по поводу исполнения Святославом Теофиловичем трех последних сонат Бетховена). Поистине в Рихтере таилась та высота, которая открывалась людям в своей простоте и свободе. Его величие, его мощь, его всепроникающая красота и правда были рождены его свободным существованием в облаках вечности, в объективной истине, которой, может быть, и нет, но которая ему была внушена и доверена. И он сам нес эту объективную истину тем людям, которые могли ее «расслышать». Таких было великое множество повсюду.
Его любили потому, что он нес в себе частицу каждого из нас. И на такой высоте и в такой прозрачности, в такой сущностной наполненности, в таком интонационном великолепии естественной речи, что музыка его вырастала в Слово. И Слово являло нам великих творцов, с которыми он, Святослав Рихтер, был в Диалоге, с которыми он был в родстве, которых он мог «вызывать», перед которыми он был строг, чист душой и бесконечно скромен.
...Стоя на куполе собора Святого Петра в Риме, я неожиданно для себя, подавляя страх высоты, вспомнил блоковские строки (перевод из Гейне): «Времена уходят в могилу, / Идут, проходят года, / И только любовь не вырвать / Из сердца никогда…»
Рихтер внушал любовь ко всему сущему, о чем могла поведать великая музыка. И он растворялся в этой любви-музыке, объективизируя ее, делая ее неприкасаемо новой. Он словно ткал из нее какую-то новую реальность, ощущаемую и видимую в ее величественных очертаниях и сохраняющую при том «душу живу» – не окаменело-монументальную, но мощную и свободную, интенсивно чувствующую и переживающую мгновения бесконечной жизни...
За несколько дней до первоавгуста, я был в Милане, в театре «Ла Скала», и живо вспомнил, как в декабре 1994 года, совсем незадолго до рихтеровского восьмидесятилетия, мы были здесь с ним вместе на премьере «Валькирии» Вагнера. Дирижировал Риккардо Мути, пел Доминго. Оформление спектакля Рихтеру не очень понравилось, но музыкальное воплощение он нашел весьма совершенным. После спектакля Святослав Теофилович зашел к Мути в артистическую. На следующий день я беседовал с дирижером в той же артистической комнате, и он сказал мне с восторгом: «Рихтер был вчера на моем спектакле!» Его тонкое, изысканных очертаний лицо просияло.
Сейчас я получил в подарок от замечательной Миллены Боромео – верного помощника Рихтера в его европейских странствиях, а теперь секретаря Мути в «Скала» – фотографию, сделанную в тот вечер: Рихтер и Мути в разговоре, на белом кожаном диване в дирижерской, которую некогда занимал Артуро Тосканини, а теперь нынешний руководитель «Ла Скала», то есть Мути – выдающийся итальянский музыкант (его артистической карьере Рихтер в свое время весьма способствовал, поверив в талант молодого дирижера и сделав с ним несколько записей. К чести знаменитого ныне маэстро надо сказать: он чтит память о великом русском Артисте).
На фотографии Рихтер уже новый. Но такой же вдохновенный, серьезный. «Распахнутый» изнутри, пластичный. Он словно какое-то произведение искусства. Скульптурен. И при этом свободен внутри своей, отграниченной от суеты сует, природы. Сопряжение монументальности, могучести и полетности звучало в нем таинственной изначальностью…
Тогда же, в декабре 1994-го Рихтер пригласил меня на свой концерт в Падую. Сейчас я долго ходил по этому дивному городу Петрарки, Джотто, Палладио. Долго стоял у того зала, где тогда играл Рихтер. То был последний концерт Рихтера, который я слушал. И один из самых последних в его жизни.
Последние два года он, как известно, сильно болел и играл очень мало. Потом и вовсе не играл. Но тогда в Падуе он поразил меня тем, что шел к роялю как-то устало, с некоторой осторожностью, как мне показалось. Но, сев за рояль и устремив руки к клавишам, он обрел свою удивительную, обычную для него и всегда новую, всегда заново поражавшую и радовавшую слушателя мощь, красоту и устремленность к тем облакам вечности, в которых ему было легко дышать и свободно жить. Он играл сонату Гайдна, играл третью сонату Вебера. И во втором отделении четыре скерцо Шопена. Я записал этот концерт на свой плохонький диктофон и храню эту запись как зеницу ока. Я слушаю ее в самые трудные свои минуты.
...В антракте он пригласил меня к себе. Я был потрясен тем, что именно в антракте: никогда не было у нас разговоров в антракте его концерта. На следующий день – бывали, но в антракте... Он сказал мне: «После концерта у меня уже не будет сил». И говорил со мной весь антракт. Я спросил его тогда, сколько концертов он дал в этом, 1994-м году. Он покачал головой и с нотой грусти в голосе заметил: «Мало, меньше, чем обычно». Назвал цифру. Но и с этой цифрой получалось, что он играл чаще одного раза в неделю. Я спросил почему-то о его воспоминаниях «О Прокофьеве»: полностью ли они были в свое время опубликованы, не осталось ли чего-то, не вошедшего в известное издание. Он ответил: «Да, какие-то сокращения были, надо посмотреть дома». Был очень добр.
Я сказал бы неправду, если бы вдруг заявил сегодня, что ощутил тогда «угасание». Нет, я почувствовал, что он много работает и устает. Я понимал, что скоро его 80-летие, и что это, возможно, наводит его на серьезные, и при этом невеселые, размышления. Нет, я не думал о том, что больше не увижу его живым. Не услышу его живой игры.
Но щемящая нота все же звучала в нашем разговоре. Я не нашел ей тогда объяснения или не захотел найти.
После концерта я подождал Святослава Теофиловича. Он вышел, прошел к машине. Миллена Боромео открыла дверцу машины. Он махнул рукой. Среди провожавших был и замечательный русский пианист Борис Бехтерев, живущий в Италии ученик Якова Исаковича Мильштейна. Рихтер уехал...
Его 80-летие мы отмечали в Москве без него. Я произнес речь о Рихтере перед концертом, организованным Московской консерваторией в Большом зале. Послал, как обычно, телеграмму. В рихтеровском зале Собрания личных коллекций Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина был устроен дивный вечер. В 97-м он прилетел из Парижа в Москву. Я хотел встречать его, но мне передали, что Рихтер не хотел бы, чтобы друзья видели, как (с трудом) он будет спускаться по трапу самолета. Предполагалось, что мы увидимся позже. Но я увидел его уже в гробу, когда пришел проститься с ним в его дом.
В большой комнате – в зале, где так часто мы разговаривали, слушали музыку, он лежал спокойный и невероятно красивый. Потом, уже 4 августа, была церковь Иоанна Воина. И поцелуй прощанья. Буквально передо мной прощался с Рихтером Александр Солженицын – они чтили друг друга. Перед тем – Музей изобразительных искусств... Итальянский дворик, где стоял гроб Рихтера, навсегда связан теперь для меня с его последним Присутствием, хотя до того дня я не раз слушал, как Рихтер играл в Итальянском дворике. Но осталось прощание. Из церкви тронулись все на Новодевичье. Забыли священника. Он стоял, не зная, к кому же ему примкнуть. Отец Николай Ведерников, отпевавший Рихтера и произнесший проникновенное прощальное слово в храме, сам – изначально – музыкант, композитор, сел в наши «Жигули». На кладбище его дожидались. Служба была продолжена. И все простились с Рихтером…
В июле 1999-го, за несколько дней перед 1 августа, на могиле Святослава Теофиловича был открыт памятник-надгробие работы скульптора Франгуляна. Сооружение это у многих вызвало вопросы. Сам скульптор объяснял свой замысел довольно просто: «Я хотел открыть камень», – говорил он, «объясняя» две распиленные гранитные глыбы, поставленные почти под прямым углом друг к другу. Отойдя от памятника на несколько метров и оказавшись к нему под каким-то углом зрения, я вдруг нашел свое объяснение монументу. Я вдруг «увидел» в одной из глыб некое подобие рихтеровского профиля. И тогда полированная глыба, что противостояла этому профилю, оказалась нотным листом или стеной, завесой жизни, в которую проникал его взор. Я принял этот памятник.
Он обратил меня к образу живого Рихтера. Снова и снова возник образ куполов Браманте и Микеланджело, вознесшихся с земли к небу, омываемых облаками вечности.
Рихтеру был свойствен, ему был дан свыше дар взгляда на пространство музыки, пространство земли как бы сверху вниз. С высоты небесной на землю прекрасную. Сверху вниз не в высокомерном измерении кажущегося величия того, кто наверху. Его взгляд сверху вниз, с неба на землю, был взглядом, приближающим землю, укрупняющим ее. И дарующем этой земле единство масштаба и ясность бесконечности. Не случайно он любил вид из своей последней квартиры на шестнадцатом этаже московского дома на углу Большой и Малой Бронной. Вид на Москву открывался оттуда действительно чудесный. Он любовался им и всегда просил своих гостей полюбоваться.
Не случайно, наверное, ощущение этого «взгляда с неба» на прекрасную землю я ощутил с площадки любимого рихтеровского отеля в маленьком итальянском городке Азоло (это не так далеко от Венеции). Он любил этот город. Любил играть здесь. Этот старинный райский уголок земли (здесь жила и похоронена Элеонора Дузе) внушал ему ощущение гармонии и свободного полета над землей в приближении к земле и вечном удалении от нее. Приблизиться к ней в своем искусстве он не мог и не хотел. Он приближал ее своим сознанием, своим сердцем, своим чувством, своей мощной художественной волей, своим магнетизмом. Он «вызывал» идеальную реальность, и она ему являлась.
Когда-то, теперь кажется, уже очень давно, в конце 60-х годов, Святославу Теофиловичу передали из редакции журнала «Пионер» письмо школьников с просьбой рассказать о себе и концертных поездках по миру. Он отнесся к письму очень серьезно. Написал довольно подробный отчет об одном путешествий по Италии и приложил даже карту-схему своего передвижения. Я помню это письмо, потому как по просьбе Святослава Теофиловича передавал его в редакцию, и по просьбе редакции написал некое вступление к этой публикации. Помню, с какой теплотой и любовью говорил он там об Азоло и еще о нескольких итальянских городах: о Брешии и с особенным чувством о Виченце. С той поры я запомнил Виченцу – город Палладио, как любил подчеркивать Святослав Теофилович. Он не раз вспоминал об «Олимпийском театре» Палладио в Виченце. Театр произвел на него исключительно сильное впечатление.
Я только сейчас переступил порог этого «Олимпийского театра» Палладио и все пытался понять, что так влекло именно в этом архитектурном шедевре Святослава Рихтера.
Я думаю, что в искусстве Палладио (и в его «Олимпийском театре») Рихтеру должно было особенно импонировать единение времен в замкнутом и в то же время открытом пространстве – постоянная декорация на сцене выписана и выстроена здесь так, что три городские улицы из «исторического времени» уходят в какую-то бесконечность. Возникает странное единение времени, пространства и людей на сцене и в амфитеатре зала, очень небольшого. Возникает ощущение фантастической разомкнутости. Это одна из воплощенных иллюзий художника, который должен из реальности создать новую реальность. И эта новая реальность должна быть мечтой, в осуществление которой можно поверить в данную секунду.
Мне кажется, искусство Рихтера обладало этим палладиевским даром. Он создавал великую иллюзию. И эта иллюзия становилась правдой в тот миг, когда играл Рихтер, и в те мгновения, когда мы об этом вспоминали и восстанавливали в себе «чувство Рихтера» силами эмоциональной памяти, нам дарованной. – Иллюзия полного, глубокого, нераздельного слияния человека на сцене и человека в зале; удивительная разомкнутость звучащего пространства.
Стены Белого зала Музея изобразительных искусств на Волхонке в дни рихтеровских «Декабрьских вечеров», стены Большого зала Московской консерватории или иного рихтеровского зала будто раздвигались, когда играл Рихтер, или – того прекраснее – «прорастали» шедеврами пластического искусства, архитектурными деталями, будто терявшими свое функциональное назначение и проявлявшими свое художественное лицо. Стены не ограничивали вашу жизнь в момент общения с Рихтером и с искусством Рихтера, с музыкой, которая приходила от него, через него, им вызванная. Музыка колдовски воздействовала на вас, обращая вас в существо в высшей степени талантливое и правдивое, – хоть на несколько мгновений, пока играет Рихтер. И в то же время создание прекрасно одинокое. Никто не мог помешать вам, когда вы слушали Рихтера. Никакое раздражающее обстоятельство или воспоминание.
Рихтеровская тишина была проникновенна и «небожительна», благословенна. Тишина эта рождалась звуками. Звуками, исторгаемыми феноменом Рихтера. Нельзя сказать – «его пальцами» или «его руками».
Помню, какой-то давний (в «Огоньке») фотопортрет Рихтера. Момент был выбран выразительный: руки, нависшие над роялем, крупный план пальцев и подпись известного в те поры поэта-юмориста Эмиля Кроткого: «эти руки справятся играя с музыкальной трудностью любой». Обыгрывалось – «играя». Многие тогда воспринимали Рихтера как исключительного виртуоза, который играет «быстрее других». Нередко говорили и писали о том, что для Рихтера нет никаких технических трудностей. Но трудностей не было у многих выдающихся пианистов.
И всегда у настоящих художниковы были трудности, связанные с их отношением к музыке и с их жизнью в момент соприкосновения с музыкой. Этих трудностей не избежал и Рихтер. И в этом была главная трудность его жизни. Его труд, труд его души, постоянный, связанный с «вызыванием» музыки, общением с ней и тем, как нам всем казалось, чудом, когда эта музыка становилась уже не его, а нашей. Становилась свободной объективной звуковой материей. Эту трудность-Крест он нес в течение всей своей жизни.
Рихтер был наделен, казалось, фантастической физической силой, феноменальной выносливостью. 82 года его жизни – это годы странствий по земле и годы странствий в облаках вечности в общении с вечной музыкой. Это были непростые годы и тяжелые странствия. Но и их он сподобился сделать естественной жизнью. Не жизнью на преодоление неминуемых житейских тягот, а жизнью, которая будто-то и не могла быть иной.
Поразительно относился он к испытаниям судьбы. Его жена Нина Львовна Дорлиак рассказывала, что когда принесли в их дом бумагу о реабилитации Теофила Даниловича – отца Рихтера (которого он любил с какой-то исчерпывающей и самосжигающей нежностью и истинно русским чувством вины за трагическую судьбу отца, вины, в которой он никак не был повинен), Святослав Теофилович даже не взял документ в руки, не стал читать. Он только сказал: «Я всегда знал, что он ни в чем не виноват». И бумага осталась лежать в семейном архиве...
Рихтер при жизни, с самого начала широкой своей художественной деятельности стал легендой. Рихтеровский миф складывался естественно, безо всякого участия со стороны самого артиста или его окружения, что редкость по нынешним временам. Мировое имя Святослава Рихтера начало складываться еще до того, как он начал странствовать по Европе, Америке, Азии. Легенда покатилась из Москвы через Прагу, Китай, Финляндию, далее везде...
Любопытно, как рихтеровский «миф» нашел свое отражение на страницах современной литературы. В одной из книг известного английского писателя Джона Фаулза герой и героиня, слушая в салоне комфортабельного лайнера некоего пианиста, замечают: «Руская школа! Чувствуется влияние Святослава Рихтера…» Влияние Святослава Рихтера действительно почувствовала и русская школа, и все другие школы. Его ощутило и восприняло фортепианное искусство XX столетия, его самые достойные и высокие герои. Рихтера искренне почитал великий Владимир Софроницкий. На рихтеровское приглашение принять участие в его фестивале в Туре откликнулся великий Бенедетти Микеланджели (на редкой фотографии, запечатлевшей их обоих, – художники, сознающие истинную ценность друг друга).
Странствия по миру, по городам России были для него необходимы. Он должен был двигаться, он должен был нести свою миссию, свой крест. Он должен был жить в музыке и представать перед Богом и людьми там, где его хотели видеть, или там, где он сам хотел быть и сам хотел видеть людей, города, художественные памятники. Но прежде всего людей. Он их воспринимал особенно: и индивидуально, и обобщенно. И чрезвычайно уважительно.
Мне не забыть эпизод, которому я был свидетелем однажды в Смоленске. Я поехал из Москвы на рихтеровский концерт в Смоленск, а он возвращался из-за рубежа и по обычаю играл в Бресте, Минске, приближаясь к Москве. Я встречал его на вокзале. Встречали его и представители местной филармонии. Рихтера спросили: что будете вы играть сегодня вечером? Наверное, то же самое, что вчера в Минске? Мы эту программу уже узнали.
Он сказал: «Нет, нет. Я должен подумать.» Он достал свою объемистую записную книжку, порылся в ней. Довольно долго, несколько минут он ее листал. Нашел нужную страницу и сказал: «Вот, я нашел. Я был последний раз в Смоленске десять лет назад, и я нашел, что я тогда играл. Значит, сейчас я буду играть что-то другое».
Доброжелательно настроенные к уставшему, как им казалось, артисту администраторы говорили такие слова: да зачем вам беспокоиться и лишние силы тратить. Сыграйте то, что играли вчера в Минске, все будут очень довольны. Вы у нас гость хоть и редкий, но любимый.
Рихтер, однако, настаивал: «Десять лет назад я играл перед публикой Смоленска одну программу, сейчас буду играть перед публикой Смоленска другую программу».
Смоляне: да у нас поколения уж сменились за это время, люди будут другие.
Рихтер: «Есть публика Смоленска. Я играл перед ней десять лет назад одну программу, сейчас буду играть другую». Другая программа была определена...
Вечером произошло следующее. Рихтер вышел, начал играть. И вдруг то одна, то другая клавиша перестали отвечать. Первое мое ощущение – ужас. Сейчас он встанет, уйдет. Но он не встал и не ушел. Случилось чудо: я перестал замечать, что клавиши рояля не отвечают.
Рихтер доиграл первое отделение. Я побежал за кулисы. Вызвали настройщика (видно, рояль давно не настраивали, и он «подсел» к вечеру). В ожидании настройщика мы начали настраивать рояль сами. Рихтер говорил мне, какую струну надо тронуть, что-то делал сам. В общем мы что-то вдвоем совершили. Приехал настройщик, антракт задержали. Во втором отделении все было в порядке.
Потом мы вместе возвращались в Москву в поезде. Я спросил Святослава Теофиловича, почему он не прекратил концерт, почему не встал, не ушел. Он сказал: «Но публика же ни в чем не виновата! Они пришли слушать музыку, они должны были ее услышать…»
Это отношение к публике как к самому большому мудрецу и сочувствующему существу, отдельному и единому, жило в нем всегда. Известны его высказывания о публике (в беседе с профессором Яковом Мильштейном), запечатленные на пленке. Я присутствовал при этой съемке и даже, грешным делом, подливал чуть-чуть коньяку в его чашечку с кофе (это «расковывало» Святослава Теофиловича).
На вопрос Якова Исааковича Мильштейна, как он относится к публике (речь зашла о трудностях исполнения романтической музыки, о том, что публика очень ее любит), Рихтер заметил: «Публика всегда права...»
Казалось бы, странное заявление. Нередко артисты жалуются на публику, сложилось устойчивое словосочетание «публика-дура». Рихтер был другого мнения. Он даже разъяснял мне потом свою позицию. Он полагал, что культурный опыт одних, сопрягаясь с культурным опытом других, дает в целом – в зале – взвешенную и безусловную позицию для восприятия искусства.
Беспрецедентна по замыслу и воплощению знаменитая рихтеровская поездка по городам Сибири: от западной границы до восточной – и от восточной (после гастролей в Японии) границы до западной. Вообще (я убежден в этом) она должна войти в историю культуры как воплощение истинного служения Публике.
Я был с Рихтером на завершающем этапе этого неистового концертного путешествия. Прилетел в Уральск, где играл Рихтер. Из Уральска мы двинулись на Саратов, на автомобиле. Это был японский автомобиль высокой проходимости. Святослав Теофилович сидел рядом с водителем, очень опытным. Путешествие длилось долго, несколько часов. Довольно скоро я почувствовал всю некомфортность такого путешествия. Однако Святослав Теофилович был бодр.
Я произнес: «Еду какие-то два часа с вами, а вы уже столько проехали! Как вы это все переносите?»
«Самое трудное не тряска, – отвечал Рихтер, – самое трудное, что указателей на дорогах нет. Неизвестно, куда ехать!..»
К вечеру, часов через пять или шесть добрались до Саратова. Расположились в отведенной Рихтеру – тут уж надо по правде сказать – резиденции: старое здание начала века в стиле модерн в самом центре города (по-видимому, использовалось в ту пору властями города как гостиница для особо важных персон), рядом с консерваторией, где ему предстояло играть на следующий день.
Я полагал, что сейчас-то Святослав Теофилович будет отдыхать. Но он сказал вдруг: «Андрей, а вы не узнаете, что идет сегодня вечером в театре? У нас же свободный вечер».
Я вышел на улицу, прихожу: «В Драматическом театре сегодня «Зойкина квартира».
Он встрепенулся: «Идем! Только, пожалуйста, пойдите и просто купите билеты. Не говорите, что мы с вами придем. Не надо артистов тревожить, а то еще администрация внимание станет проявлять…»
Я купил билеты, к администратору не обращался. Все сделал как он сказал.
Вечером мы пришли в театр на «Зойкину квартиру». Булгакова он обожал, пьесу хорошо знал. Но он пришел в распахнутой рубахе, на груди – большой крест особой формы, большая цепь. На него нельзя было не обратить внимания. Все тотчас узнали, кто в театре. Артисты конечно же волновались, но думаю, это волнение пошло им на пользу. Спектакль прошел хорошо. Рихтер был доволен.
На следующий день он играл концерт в Саратовской консерватории. Вечером поездом отправились в Москву. Был длинный вечерний разговор, и в какой-то момент я спросил у Святослава Теофиловича разрешения записать наш разговор на магнитофон. Эту запись храню. Стук колес и голос Рихтера. Для меня она так же дорога, как запись последнего для меня его концерта в Падуе.
Рихтер рассказывал о своих последних поездках. Вдруг заговорили об Элизабет Шварцкопф. Я рассказал, что был на ее концерте в Праге и беседовал потом с этой выдающейся певицей. Он откликнулся: виделся с ней в Лондоне. И вдруг: «А вы знаете на кого похожа характером Элизабет Шварцкопф?» Я начал гадать, и все не попадал. Наконец Рихтер сказал: «Не угадаете. Она похожа характером на Екатерину Алексеевну Фурцеву!» Вот неожиданность сопоставления, за которой угадывается правда характеров.
Я всегда восхищался строкой Блока: «Ты, как младенец спишь, Равенна у сонной вечности в руках…», пока не оказался в Равенне и не ощутил, что Александр Блок не придумал это сравнение, а восхитительно ощутил подлинный облик и строй души тихой, в сущности, небольшой таинственной Равенны с ее воздухом, напоенным совсем близким морем и памятью о последних днях Данте. Божественные дантовские странствия, объявшие в своем поэтическом вихре земное, подземное и небесное обиталища духовной художественности человеческого гения, в чем-то сродни, мне кажется, рихтеровским «годам странствий» в облаках вечности и земных иллюзиях, неотделимых от чистой подлинности живой жизни, отысканной и воспринятой его, Святослава Рихтера, «чувством истины на все-на все».
Когда-то, в самых первых своих статьях о Рихтере, я высказал парадоксальную на первый взгляд мысль о том, что Рихтер – это не пианист. Это гениальный человек, Художник, высказавшийся через искусство фортепианной игры. Но его влияние на нас – общехудожественно и выходит за пределы исполнительского искусства, возвышая исполнительство до искусства первозданного, чисто творческого. До чистого творчества.
Я пытался тогда разрушить «магический круг» сравнений: Рихтер, Гилельс – кто лучше? Я чувствовал, что необходимо вывести Рихтера «из круга пианистов», чтобы всем стало легче, чтобы стало, наконец, ясно, что как-то по-другому обстоят дела. Что вместе с этим артистом миру, нам, русским людям, нам, в России, явился посланец иной художественной воли, который лишь для порядка выступает в роли нам понятной, и в облике привычном – в роли и облике пианиста, артиста-исполнителя, одного из многих, пусть даже одного из немногих, первого среди равных.
Я не был понят. В музыкантской среде еще долгое время пытались поставить Рихтера в общий ряд и отвести ему, достойное разумеется, место в этом общем ряду.
Он же сам будто и не испытывал сопротивление среды или, сильнее сказать, «террора среды». Он играл. Он был желанен повсюду, оставаясь таинственным и непонятым.
Никогда не забыть, как началась беседа Артура Рубинштейна и Генриха Нейгауза в больнице – в институте Вишневского – в октябре 1964 года. Первое, с чем обратился Рубинштейн к Нейгаузу, было: «Ты объясни мне, пожалуйста, что же такое Рихтер? Я вот все думаю». И Генрих Густавович с нахлынувшим на него внутренним чувством, приподнявшись на локтях, стал объяснять старому другу, что же такое Рихтер…
Событием жизни стали для меня встречи и беседы с Артуром Рубинштейном в московском отеле «Националь», когда передавал я ему нейгаузовское письмо, и в те минуты, когда ехали мы в больницу к Генриху Густавовичу, и потом (после второй их встречи) в аэропорт – Рубинштейн улетал в Варшаву и покидал Москву, как оказалось, навсегда. Мы говорили о Рихтере. И Рубинштейн высказал тогда те мысли, которые впоследствии повторил для фильма «Хроники Святослава Рихтера».
Я начал слушать Рихтера лет в десять-двенадцать в конце 40-х годов. Был на том концерте в Большом зале Консерватории, когда Рихтер единственный раз в своей жизни стоял за дирижерским пультом (это было первое исполнение Симфонии-концерта для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева, солировал Мстислав Ростропович). Первую статью о Рихтере написал в 1955 году. В 1964-м вышел мой диафильм «Святослав Рихтер», а в 1975 – документальный телевизионный фильм «Рассказ об одном концерте, или Последняя соната Бетховена». Потом были «Хроники Святослава Рихтера» и другие документальные фильмы, в которых Рихтер играл, – всего девять. Два последних вышли в 1995 году.
Меня волновало само по себе искусство Рихтера, его игра. В игре своей Рихтер воплощался с максимальной полнотой – взлеты, противоречия, прозрения. Его известная фраза: «Мое интервью – мои концерты» – одно из самых истинных и значительных его высказываний.
В фильмах я не стремился создавать бытовой портрет Рихтера. У меня не было желания заставить его «говорить». Столь радостным, столь долгожданным, столь необходимым было желание его слышать, что свои фильмы я задумывал и представлял себе прежде всего как осмысление искусства Рихтера. Было много проблем, и творческих, и технических. Но главное – все мои попытки уговорить Рихтера сниматься не давали результата. Он уходил от разговора. Говорил: нет, зачем? Молчал и улыбался.
Наступал 75-й год. На встречу Нового года я был приглашен Святославом Теофиловичем к нему домой. На праздничном столе перед каждым стулом лежала карточка. Каждый должен был угадать, где ему сесть. Так, я заметил, что на одной из карточек была нарисована пловчиха. Я понял, что это карточка для Сильвии Федоровны Нейгауз (она в то время ходила в бассейн, плавала). Свое место я нашел по карточке, на которой были нарисованы два кинокадрика – красный и зеленый. Храню ее до сих пор.
Рихтер определил мне место рядом с собой. Это был удивительный вечер, или удивительная ночь. Где-то после полуночи, когда, разговаривая, мы встали из-за стола и остановились «в дверях», соединяющих гостиную с «залом», я снова заговорил о необходимости сниматься (в этот момент нас никто не видел и не слышал). И тут наступил великий момент для меня.
По-видимому, я нашел какие-то слова. Святослав Теофилович очень ласково, но строго посмотрел на меня и произнес историческую фразу: «Ну ладно, снимайте, но только так, чтобы я не знал».
В этом весь Рихтер. Или не весь, а просто Рихтер. Он выразил в очередной раз свое доверие к человеку, которого он мог наблюдать к тому моменту уже более пятнадцати лет. В этом было понимание художественной таинственности и общественной значимости того процесса, который ему предлагался. Он выразил свое доверие и выставил жесткие условия. Все должно было быть и не быть. Снимайте, но только так, чтобы я не знал! А как снимать, чтобы он не знал? Это, значит, без света, скрытыми камерами, не допуская ни малейшей технической оплошности (разорвавшаяся лампа осветительного прибора, например, что сплошь и рядом бывает на киносъемках) – иначе разрушение атмосферы и, следовательно, урон его искусству, то есть ему.
Но тогда я был счастлив. Я знал, что можно начинать работать. И я также знал, что я его не обману, придумаю нечто, что полностью соответствует формуле, предложенной им.
Концерт, в котором мы впервые снимали Рихтера, в январе 1975 года, был в память Генриха Густавовича Нейгауза. Рихтер играл сонаты Бетховена, в том числе последнюю, 32-ю. Камеры были установлены в маленьких ложах в самом конце Большого зала Консерватории и в первом амфитеатре. Не было никакого дополнительного освещения, не могло быть речи о крупном плане. И я, как автор и организатор съемок, убедил всех в том, что то, чего у нас нет, нам и не нужно.
О чем 32-я соната Бетховена? Это прощание с миром. Какой же здесь крупный план? Мы снимали фильм о сонате в исполнении Рихтера, а не о Рихтере как интерпретаторе сонаты. Акценты важные.
Была еще одна проблема – пленка. Где было взять такую светочувствительную пленку, чтобы без дополнительного освещения на 16 мм получить достойное изображение? Кинооператор Николай Москвитин, даровитый и опытный мастер, сказал, что на пленке, которую мы могли реально получить, будет очень большое зерно. Я снова убедил всех, что это то, что нам нужно: в сонате-прощании не должно быть ясных очертаний.
Казалось, все технологические условности кинопроцесса не позволяли вести съемки. Но я сознавал, что другого случая не будет. Мы искали ключ чисто кинематографического решения, при котором слились бы и художественные задачи, и реальность съемочного дня.
Меня всегда занимала проблема, как снимать музыку, чтобы прежде всего музыкальный импульс попадал в «око внимания», а зрительный образ возникал бы уже «на счет два». Тогда это было бы слушание музыки при некоем зрительном восприятии, а не рассматривание артиста, который что-то играет. Это сложный и тонкий вопрос. Разные мастера кино и разные мастера музыкального искусства, когда они снимались для кино и телевидения, подходили к этой проблеме по-разному. Например, знаменитые фильмы с Гербертом фон Караяном сделаны, исходя из иной, противоположной эстетики изображения. В них музыкальный сигнал как бы вторичен. Эти фильмы должны были внушить зрителю «динамический облик» артиста. Рихтер же всегда полагал, что на артиста во время игры не надо смотреть. Одно время он даже говорил о том, что чуть ли не занавеску надо повесить, чтобы артиста никто не видел, что нечего рассматривать лицо – надо слушать музыку. Он был прав. За одним исключением. Его лицо так много говорило. Но к крупному плану Рихтера мы пришли позже, когда его стал снимать (в других наших с режиссером Святославом Чекиным рихтеровских фильмах) выдающийся кинооператор Георгий Рерберг. Снимать скрытой камерой из органа!..
...Можно было бы говорить об органной или оркестровой мощи в игре Рихтера – о его свободной, безграничной возможности выразить на рояле Музыку вне ее «родовой» или «видовой» принадлежности. В одной из наших бесед – а говорили мы о различных оркестровых версиях «Бориса Годунова» Мусоргского – Святослав Теофилович заметил, что он очень высоко ценит прежде всего оригинальную авторскую инструментовку. И неожиданно добавил: «А лучше всего «Борис Годунов» звучит на рояле».
И я представил себе, как Рихтер, вослед Мусоргскому, который по всем историческим свидетельствам был уникальным пианистом, – как Рихтер сыграл бы на рояле «Бориса Годунова», «заменив» оркестр. Ни в громкости, а в чистоте и единстве инструментального тембра, в котором обнаруживается вся невысказанная многокрасочность партитуры Мусоргского. Невысказанная, невыразимая, даже, может быть, не записанная самим автором так, как ему идеально слышалось.
Рихтер обладал даром абсолютного и совершенного, глубинно исчерпывающего слышания музыкального произведения. Он будто знал не только все, что было до того, как возникло то или иное сочинение автора, но знал и слышал то, что автору исторически знать и слышать не пришлось. Это созвучие, сопряжение будущего с прошедшим в сиюминутном настоящем, живом и будто вечном пространстве великой музыки сильно отличало рихтеровскую игру. Он мог исполнить Шуберта или Шумана, и вдруг вы понимали, что жил на свете Клод Дебюсси! И каким-то образом они там, наверху, услышали и обрели друг друга. Вы «слышали», что на Дебюсси как-то повлиял Шуберт, как-то Шуман и как-то, совсем отдельно, Мусоргский. При всем том вы слышали подлинного Шуберта в исторической проекции в будущее.
Рихтеровское бесконечно чистое историческое чувство естественно сочеталось с непосредственной и бесконечной влюбленностью в автора, которого он в данный момент избрал, чтобы с ним говорить, то есть играть. У нас зашла однажды речь о Рахманинове и Бахе. И Рихтер сказал: «Я, конечно, понимаю, что в истории музыки они и в разных временах, и на разных «полках». Но когда играю Рахманинова, он для меня самый любимый и единственный композитор».
На мой взгляд, Рихтер – самый таинственный и убедительный интерпретатор рахманиновской музыки. Я ставлю его исполнение Рахманинова выше, чем авторское исполнение. Спорное положение, но объяснюсь. Мне кажется, что когда Рахманинов играет себя, то он в момент исполнения невольно становится прежде всего пианистом и играет себя как интерпретатор, а не автор, то есть так же, как он играл бы Бетховена или Шопена. Рихтер же играет «музыку Рахманинова», и в этот момент полагает его самым великим композитором из всех, кто жил и творил на свете. Он полностью в него погружен, и потому интерпретация Рихтером музыки Рахманинова есть, на мой взгляд, наиболее концентрированное, наиболее полное и наиболее мощное представление Рахманинова-композитора облакам вечности. Это самый проникновенный портрет Рахманинова как неповторимой музыкальной личности. Портрет, созданный конгениальным художником. Художником-музыкантом. Но и художником из мира пластических искусств.
В своих пастелях Святослав Рихтер был пейзажист-философ, наблюдатель жизни по памяти (известно, что он обычно не рисовал с натуры). Однако в своих концертных программах Рихтер нередко представал как изумительный живописец-портретист, причем портретист монументального склада и психолог. Его концертные «портреты» по-своему программны (в духе великих русских композиторов) и одновременно полнились его личной образностью, в которой мы угадывали характер и облик-образ портретируемого, сложившийся из личных представлений объективно чувствующего художника.
Одним из таких незабываемых «концертов-портретов» стал очень дорогой для меня концерт (на рихтеровском фестивале во Франции, в старинном овине, кажется XII века, близ города Тура) памяти Евгения Александровича Мравинского. Он составился из сочинений Листа, Бартока и Шостаковича.
В тот вечер мне было уготовано место – в этом старинном каменном сооружении с деревянными стропилами и деревянной крышей – рядом с экс-президентом Франции Валери Жискар д’Эстеном. После концерта я был представлен господину Президенту, и он откровенно сказал «музыкальному критику из Москвы», что пребывает под сильным впечатлением от игры великого русского пианиста. При этом добавил, что больше всего ему понравился Лист и что он совсем не понял, зачем в этой программе Рихтеру понадобилось играть Шостаковича.
Я заметил в ответ г-ну Президенту, что программа была посвящена памяти великого русского дирижера и, если я правильно понял, Рихтер попытался воссоздать музыкой, звучавшей в этом концерте, символический портрет Евгения Мравинского. Лист олицетворял глубинно-стихийную артистическую натуру этой выдающейся музыкальной личности, по-своему «демоническую». Барток символизировал вклад Мравинского в утверждение новой классики XX века, изысканность и глубинную народность его натуры, впечатляющую и одушевленную строгость и новизну музыкального мышления Мравинского, который прекрасно исполнял музыку великого венгерского композитора. А Шостакович, первым исполнителем и эталонным истолкователем многих симфоний которого был Мравинский, стал просто главным смыслом музыкальной жизни дирижера. И без его музыки «концерт-портрет» Евгения Мравинского просто не мог состояться...
Жискар д’Эстен слушал очень внимательно и, прощаясь, заметил: «О, если бы мне это рассказали перед началом концерта, я бы все по-другому слушал».
Святослав Рихтер оставил нам в своих интерпретациях множество дивных портретов – и Шуберта, и Шумана, и Мусоргского. Его исполнение «Картинок с выставки» по своему трагизму и величию под стать репинскому портрету с уходящего из жизни Мусоргского...
...Несколько лет назад я прочел в привлекавшем тогда внимание журнале письмо Александра Солженицына, обращенное к одному безусловно выдающемуся и знаменитому во всем мире артисту (письмо включил в свой текст автор статьи об этом артисте). Оно начиналось словами восхищения солнечностью натуры, искренностью мышления того, к кому было обращено письмо. Но содержало одновременно и тревогу – каким останется этот художник в русской истории и в памяти потомков? «Искусство для искусства, – писал Солженицын, – вообще существовать может, да только не в русской это традиции. На Руси такое искусство не оставляет благодарной памяти. Уж так у нас повелось, что мы от своих гениев требуем участия в народном горе».
Святослав Рихтер и сам испил из чаши народного горя, и чтил его в своих слушателях, во всех людях вокруг него – знакомых и незнакомых. Он умел сносить обиды времени. Умел благодарно и тихо, без высокомерия, но с редкостным достоинством принимать знаки внимания к своей персоне. Умел радовать окружающих и, как истинный гений, дышать в полную силу своих легких.
Он не позволил себе обидеться на свой народ, и в этом тоже сказалось его подлинное величие человека и художника.
Отправляясь в длительные гастроли, он никогда не расставался с Россией. Писал в анкетах где-то за рубежом «русский», когда от него ждали, и даже давали понять, что следовало бы написать «немец». Сын русской матери и русского немца отца (выдающегося музыканта Теофила Даниловича Рихтера, безвинно погибшего в пучине войны и сталинских беззаконий), он был свободен от фальшивых условностей – самых изощренных, но фальшивых. В народном горе он был целителем.
Искусство его – целительное искусство. Оно несло в себе могущество доброты, страсти, великодушия. Оно обладало даром постижения тайн человеческой души и даром сотворения новых тайн, поддерживавших и сохранявших поэзию жизни.
Вся его натура была от природы художественна. Это определяло его мышление, его взаимоотношения с реальностями жизни: он их перевоссоздавал, переводил в свою реальность, где все должно было быть из «чистого золота». Но не в «стоимостном измерении», а в «каратах» небесного сияния. Ему и в голову не могло прийти то, что почему-то приходило во все остальные головы. Но в нем также с удивительной основательностью и простотой жило то, что должно было жить во всех головах, однако не поселялось в них или не задерживалось. Странный ход его мыслей мог удивить, но обнаруживал, проявлял не столько рихтеровскую необычность, сколько нашу привычку не удивляться, довольствоваться «логической» расстановкой точек над «i» и выводами, которые часто обозначали «тупик», хотя совсем рядом пролегала «главная дорога»...
Он удивительно интерпретировал окружающее пространство: видел вокруг то, что должен был увидеть не по прихоти фантазии, а «по вине» сущностного своего устройства.
Однажды мы прогуливались со Святославом Теофиловичем после длительной его гастрольной поездки. Он давно не был в Москве, и впервые увидел памятник Энгельсу у истока Пречистенки и Остоженки, тогда Кропоткинской и Метростроевской. Рихтер остановился, минуту-другую рассматривал новый для него памятник и вдруг промолвил: «Андрей, когда это в Москве успели поставить памятник Стасову?»
Он и не подумал об Энгельсе. При его художественном устройстве высокий статный человек с бородой на пьедестале должен был оказаться Владимиром Стасовым и никем иным.
Но если превращение Фридриха Энгельса во Владимира Стасова остается актом игры глубинной рихтеровской фантазии, открывающей его художественную устремленность, то другой эпизод, который я решусь здесь поведать, – свидетельство такого «обычного» хода мысли, который, казалось бы, был показан многим, если не всякому, однако и здесь Рихтер оказался уникальным – уникальным в своей естественности, благорасположенности и свободе от социальных, светских условностей. Вот эта история.
Я был на рихтеровском концерте в знаменитом концертном зале, а лучше сказать – художественном центре «Bahnhof Rolandseck» близ Бонна. Руководил этим художественным центром изумительный человек, большой друг Святослава Рихтера, истинный почитатель его дара Иоханнес Васмут, человек отдельной жизненной судьбы, чрезвычайной художественной одаренности и великого сердца, – наверное, не случайно в годы своей юности судьба свела его с самим Альбертом Швейцером; они знали друг друга, Альберт Швейцер писал Васмуту письма из своего Ламбарена – из Африки.
В те же дни устраивал домашний концерт президент Федеративной Республики Германии Рихард фон Вайцзеккер, человек огромной культуры, искренно и истинно расположенный к русской литературе и искусству. В домашнем концерте у Президента ФРГ должен был играть Юрий Башмет, аккомпанировать ему – замечательный пианист Михаил Мунтян. Святослав Рихтер был зван на этот концерт в дом президента ФРГ, и это естественно. Но удостоился приглашения и автор этих строк, в ту пору заместитель министра культуры СССР (последнее обстоятельство до известной степени объясняло мое присутствие там, и потому я упоминаю об этом).
В красиво отпечатанном приглашении (чуть ли не на пергаменте) значилось, что в доме Президента следовало появиться во фраке или смокинге.
Святослав Теофилович спросил: «У вас есть смокинг?»
«Нет, – ответил я. – Наверное, надо брать напрокат?»
«Не надо брать напрокат, – сказал Рихтер. – А в каком костюме вы можете появиться?»
Я сказал, что в темно-синем вечернем костюме.
– «Вот в нем и приезжайте».
К назначенному времени я рискнул появиться в домашней резиденции Президента в темно-синем своем вечернем костюме. Все вокруг были во фраках и смокингах. Я ждал Рихтера, не отходя далеко от входной двери.
И вот он появился. Он был в темно-синем костюме! Лишь двое – он и я – были не в смокингах и не во фраках. Рихтер протянул мне «руку в непогоду». Я был спасен. Он же и здесь был свободен. Мы вместе поднялись по лестнице на второй этаж, где хозяин и хозяйка встречали гостей. Рихтер представил меня президенту Вайцзеккеру. Как и всегда – с ним, с его музыкой, я не был одинок. Его присутствие придавало особый смысл происходящему и самой жизни.
Во всем, что говорил, играя, Рихтер слышался какой-то Закон. Он не стремился создавать «великие произведения» своей игрой. Он просто высказывал некий Закон, который жил в нем. Рихтер – это особый путь, который прошел он. И, следуя этим путем, разные художники, разные люди могут прийти к совершенству. И память о Рихтере – особая память. Паскаль написал однажды, что память – не менее живое чувство, нежели радость. Наши мысли о Рихтере – радостны.
Мысль о Рихтере рождает изумление, сравнимое с тем, когда вдруг неожиданно поворачиваешь голову, отвлекаешься от, может быть, даже и важного разговора и вдруг слышишь, чувствуешь, видишь нечто такое, что раньше и именно так не видел, не ощущал, не слышал никогда. (Так однажды, впервые приехав ранним утром на венецианский вокзал Санта-Лючия, как бы понимая, что я приехал в Венецию, но еще не отдавая себе ясного отчета в этом, среди множества людей стоя в вокзале, я вдруг повернул голову, и через стеклянную стену увидел Большой канал. Это было чудо.)
Но еще вернее сравнить ощущение от рихтеровского искусства, которое всякий раз околдовывает и всякий раз потрясает своим живым простором, с римской панорамой с высоты микеланджеловского купола собора Святого Петра.
Это дивно выписано Гоголем в его «Риме».
«...Но здесь князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город. Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке, один из-за другого выходили домы, крыши, статуи, воздушные террасы и галлереи: там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушкими колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла; еще правее возносили верхи капитолийские здания с конями, статуями; еще правее над блещущей толпой домов и крыш величественно и строго подымалась темная ширина колизейской громады; там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И над всей сверкающей массой темнели вдали своей черною зеленью верхушки каменных дубов из вилл Людовизи, Медичис, и целым стадом стояли над ними в воздухе куполообразные верхушки римских пинн, поднятыя тонкими стволами. И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом. Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетанья всех планов этой картины. Воздух был до того чист и прозрачен, что малейшая черточка отдаленных зданий была ясна, и все казалось так близко, как будто можно было схватить рукою. Последний мелкий архитектурный орнамент, узорное убранство карниза – всё вызначалось в непостижимой чистоте... Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе; еще живей и ближе сделался город; еще темней зачернели пинны; еще голубее и фосфорнее стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух... Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свете».
Боже! Ни словом, ни кистью нельзя передать чудного согласия и сочетанья всех планов этой картины! Имя ее – Святослав Рихтер. Место ее – в залах нашей души и в облаках вечности...

Манашир Абрамович Якубов
Статья из буклета к концерту "Приношение Святославу Рихтеру" 20 марта 2007 в Большом зале консерватории
О Святославе Рихтере
«Соединительное звено между настоящим и вечностью» — так определил место Святослава Теофиловича Рихтера в музыкальной истории его младший современник и страстный почитатель Альфред Шнитке. И действительно, каким-то непостижимым образом Рихтер воспринимается нами в том ряду «вечных спутников» человечества, в котором стоят такие легендарные исполнители прошлого, как Моцарт, Лист, Паганини, Антон Рубинштейн, Рахманинов...
Однако все они были не только исполнителями, но и композиторами. Как это стало возможно для Рихтера? Ведь искусство артиста по самой своей природе преходяще, эфемерно. В полной мере, в полнокровной яви и силе, оно существует лишь в момент реального творческого действия, рождается и умирает в самом акте исполнения.
Искусство Святослава Рихтера уже давно, еще при жизни гениального музыканта, сделалось синонимом высших художественных ценностей. Но этого мало. По какому-то труднообъяснимому закону его Бетховен и Скрябин, Прокофьев и Шуберт, Шопен и Брамс, его Моцарт, Шуман, Чайковский становились не только явлениями прекрасного, но и проявлениями этоса. Его концерты оказывались не выступлениями, а поступками, его интерпретации заставляли думать и догадываться о пафосе служения и смысле предназначения, о цели существования, о непреходящем, вечном и всеобщем в частной, отдельной, бренной и кратковременной нашей жизни, о самом важном и драгоценном.
С самого начала явление Рихтера было подобно чуду. Этот чудесный факт запечатлен в воспоминаниях Генриха Густавовича Нсйгауза: «Студенты попросили послушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию, в мой класс. «Он уже окончил музыкальную школу?» — спросил я. «Нет, он нигде не учился». Признаюсь, этот ответ несколько озадачивал... Человек, не получивший музыкального образования, собирался поступать в консерваторию! Интересно было посмотреть на смельчака. И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл. Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто, строго. Его исполнение захватило меня. Я шепнул своей ученице: «По-моему, он гениальный музыкант». После Двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл еще и еще...»
«Хотелось, чтобы он играл еще и еще» — поразительно простое и идеально точное выражение неутолимой жажды, которая с тех пор охватывала слушателей на концертах Рихтера. Это волнующее желание сохраняется и доныне, при слушании его записей: от них невозможно оторваться.
Гипнотическая сила воздействия великого музыканта связана с уникальным, безмерным богатством его духовного мира. Святослав Рихтер был подлинно ренессансной личностью. Феноменального разнообразия его дарований и колоссальной мощи его интеллекта хватило бы, кажется, на десяток ярких индивидуумов. Всем известен его талант живописца, без которого, вероятно, не было бы ошеломляющей роскоши красок в его прочтениях Дебюсси и Равеля. Многие годы он отдал увлечению фотографией, тысячи его снимков сохранились. Одержимый любовью к своему инструменту, он в то же время мечтал о власти над оркестром и однажды все-таки стал за дирижерский пульт, осуществив — вместе с молодым Ростроповичем — премьеру Симфонии-концерта для виолончели с оркестром Прокофьева.
Энергия творческого темперамента и масштабы художественного кругозора постоянно влекли его за пределы фортепьянного репертуара. Величайшие дирижеры и лучшие из лучших оркестры считали за честь музицировать с Рихтером. Его партнеры по ансамблям — элита музыкального мира. Сразу вспоминаются сонаты Брамса, Франка, Бартока, Прокофьева, Шостаковича с Давидом Ойстрахом, бетховенский Тройной концерт с Ойстрахом, Ростроповичем и Венским оркестром под управлением Герберта фон Караяна, виолончельные сонаты Бетховена с Ростроповичем, романсы Глинки и Прокофьева с верным другом жизни Ниной Львовной Дорлиак, Шуберт в четыре руки с Бенджамином Бриттеном, целые программы с Дитрихом Фишером-Дискау (песни Брамса и Вольфа), сонаты Моцарта и Бетховена с Олегом Каганом и Трио № 2 Шостаковича с ним же и Натальей Гутман, Альтовая соната Шостаковича с Юрием Башметом, романсы Шимановского с Галиной Писаренко, сонаты Моцарта в четырехручных транскрипциях Грига с Елизаветой Леонской, сочинения Бетховена, Дворжака, Брамса, Франка, Шостаковича, Шуберта, Шумана, Прокофьева с Квартетом имени Бородина... Перечисление трудно закончить, и ведь все это — исполнительские шедевры.
Рихтер никогда не преподавал, но для меня несомненно, что он обладал также гениальным педагогическим даром и испытывал потребность в его реализации. Неслучайно в последние десятилетия своей жизни он так много и охотно играл с молодыми музыкантами, со студентами консерватории. С юных лет околдованный сценой, театром, оперой, он дома, в кругу друзей, устраивал театрализованные прослушивания Вагнера и в конце концов выступил как режиссер незабываемых постановок опер Бриттена «Альберт Херринг» и «Поворот винта» в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Артистизм, как властно требующее выхода внутреннее свойство натуры, проявлялся и в семейных «карнавальных» праздниках, и — тоже всего лишь раз! — на экране, в снятом лет пятьдесят назад фильме о Глинке (кадры молодого Рихтера в роли молодого Листа, я думаю, едва ли не единственно драгоценное, что есть в этой ленте).
Теперь, когда из дневников Рихтера и из воспоминаний современников мы узнаем о необъятной широте его литературной и философской эрудиции, еще более объемными и глубокими предстают перед нами его интерпретации Баха, Бетховена, Мясковского, Прокофьева, Шостаковича.
Художник-творец, как высшее проявление божественного в человеке, всегда остро чувствует и связь с земным людским миром («и средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»), и свою чуждость ему. Сознательно или интуитивно он ищет преодоления этой чуждости через очеловечивание человечества своим искусством. Жажда высоких духовных радостей и потребность приобщать к этим радостям других, делиться богатствами своего творческого мира, стремление к праздничной театрализации жизни были, наверное, для Рихтера стимулом к организации фестивалей. Так возник фестиваль в маленьком французском городе Туре, так родились всемирно знаменитые ныне «Декабрьские вечера», так появилось и последнее его детище — Тарусский фестиваль искусств, вступивший уже в середину второго десятилетия своей истории.
Да, несомненно, все это под силу лишь ренессансной личности. Но не стоит забывать, что в случае Рихтера мы сталкиваемся с феноменом ренессансной личности в отнюдь не ренессансную эпоху. В лучах славы, окружавшей Рихтера в конце жизни, весь его путь может представляться благополучным и беспечальным. Увы, этот путь далеко не всегда был усыпан розами (не говорю уже о том, что розы, как известно, щедро оснащены шипами). Век-волкодав никогда не терял великого артиста из виду. Достаточно сказать, что почти до пятидесяти лет он был лишен возможности концертировать за пределами «соцлагеря».
Рихтер, мне кажется, был абсолютно не склонен к эпатажу. Более того, всячески старался избегать общественного внимания. Очень показательны в этом смысле много лет действовавшие с его стороны запреты на записи его концертов, на кино- и фотосъемки, отказ от интервью. Неординарность личности и трагические подробности биографии давали достаточно поводов для того, чтобы тютчевское «молчи, скрывайся и таи» сделать своим тайным девизом и поведенческим руководством. Рихтер не состоял в рядах диссидентов, но и в подписантах разного рода «писем трудящихся» — тоже. Его безмолвное противостояние режиму было вполне внятным. Он бдительно следил за покушениями на свою независимость и за попытками власти использовать его. Среди наиболее известных и явных, демонстративных рихтеровских акций — выставки «неофициальных» художников, которые он время от времени устраивал у себя в квартире и которые каждый раз становились событием в неофициальной же, подлинной художественной жизни Москвы.
На одной из таких выставок случился знаменательный инцидент: осмотреть ее попросила разрешения министр культуры СССР Е. А. Фурцева. Она прибыла, разумеется, с подобающей министру свитой (одному из сопровождавших мы и обязаны сохранением сей маленькой истории для потомства), все осмотрела и, уже уходя, в прихожей, обратилась к Рихтеру с неожиданной просьбой, которая, конечно, и была истинной целью визита. «Вы знаете, — сказала она, — на даче у Ростроповича живет этот человек. Это так неудобно, так вредит ему. Вы не могли бы с ним поговорить?..» «Этот человек» был Александр Исаевич Солженицын, и его проживание на даче Ростроповича и Вишневской было главным скандалом времени. Рихтер прореагировал мгновенно.
«Конечно, — сказал он. — Я с ним поговорю.
«Этот человек» может жить у нас. — Он повернулся к Н. Л. Дорлиак. — Правда, Ниночка? У нас ведь достаточно места».
С нравственной независимостью прямо и неразрывно связана и творческая бескомпромиссность, составляющая одну из главных черт артистического облика Рихтера. «Я хочу прежде всего познавать музыку. Меня интересует сама музыка, я — слуга музыки», — говорил он. И его служение было беззаветным и непреклонным. Рихтер никогда не следовал моде, которая, как известно, в музыкальной повседневности имеет немалую власть. «Общепринятые» установления и запреты могли для него быть и прямым стимулом к эксперименту противодействия. «Если нельзя, то особенно приятно», — сказал он мне в одном из немногих разговоров. Он играл сонаты Шуберта, когда их не играли вовсе. (И как играл! Вот еще характерный штрих к его образу. Рассказывают, что после исполнения Сонаты Шуберта В-dur Яков Мильштейн, мнение которого Рихтер ценил, сказал ему, имея в виду неукоснительное исполнение всех реприз и подчеркнуто медленные темпы, что соната звучит слишком долго. «Значит, надо играть еще медленнее», — заключил Рихтер.) Он исполнял малоиграемые концерты Римского-Корсакова, Дворжака, Глазунова, совершенно неизвестный в те годы (да и сейчас звучащий, можно сказать, нечасто) Пятый концерт Прокофьева, он вводил в концертный репертуар сочинения Берга и Шимановского, Яначека и Хиндемита, Копленда, Франка, Мясковского, Регера... Но также — незаслуженно обделенные вниманием произведения Генделя и Грига, забытые, якобы «салонные», «малоинтересные» пьесы Чайковского. В этих нарушениях репертуарных обыкновений Рихтер проявлял тот же принцип независимости и бескомпромиссности, что и в своем общественном существовании. Конечно, тут был вызов специализирующимся только на Шопене (так называемые «шопенисты»), или только на Скрябине («скрябинисты»), или только на старинной и современной музыке. «Пианист, хорошо играющий плохую музыку», — язвила одна из коллег (как раз из «шопенисток»). «Я существо всеядное, и мне многого хочется, — замечал по этому поводу Рихтер. — И не потому, что я честолюбив или разбрасываюсь... Просто я многое люблю, и меня никогда не оставляет желание донести все любимое мною до слушателей».
Здесь я возвращаюсь к тому, с чего начал, — к уникальной многогранности этой творческой фигуры и к исключительному рихтеровскому дару артистического перевоплощения. «Когда он играет разных авторов, кажется, что играют разные пианисты, — писал Нейгауз. — Рояль другой, звук другой, ритм другой...» Тайна такого перевоплощения плохо поддается анализу, но оставляет беспредельные просторы для удивления, восхищения и поклонения.
Искусство Святослава Рихтера было и остается недосягаемым, его духовное наследие неисчерпаемо. Оставленная нам гением возможность бесконечно долго познавать это богатство и наслаждаться им — счастливый удел.
Статья из буклета к концерту "Приношение Святославу Рихтеру" 20 марта 2007 в Большом зале консерватории

Лариса Кузёмина, Юрий Щербинин.
«Музыкальная академия», 2008, №4.
РИХТЕР В ХАРЬКОВЕ
Культурная жизнь Харькова всегда отличалась активностью и разнообразием. В Харькове получили «путевку в жизнь» многие талантливые литераторы, художники, музыканты и артисты. Мастера искусств приезжали на гастроли в наш город с удовольствием.
Был в Харькове музыкант «не просто очень крупный, но из ряда вон выходящий, принадлежащий к числу немногих, кому уготовано почетное место в истории фортепианного искусства». Эти слова Д.Рабиновича посвящены С.Рихтеру, имя которого золотыми буквами вписано в историю мирового музыкального искусства. Ему восторженно рукоплескали во Франции, США, Англии, Италии, Канаде. С ним считали за честь выступить в одном концерте известнейшие и талантливейшие дирижеры: Караян, Орманди, Маазель и др.
Родиной Рихтера была Украина: родился в Житомире, начинал свой путь в большое искусство в Одессе. Дальше – Москва, школа Г.Г.Нейгауза, и мировая известность.
Картина харьковских выступлений С.Рихтера собиралась по крупицам. Было увлекательно и трудно в одинаковой мере. С одной стороны, мне предстояло прикоснуться еще раз к творчеству удивительной неповторимой личности. С другой – при полном отсутствии архивных материалов о выступлениях С.Рихтера в Харькове, первый этап поисков казался безнадежным. Да и возможностей пообщаться с очевидцами выступлений музыканта было не так уж много. Ушли из жизни Р.Горовиц, Г.Тюменева, З.Юферова...
Нужны документы! Кропотливые поиски увенчались успехом – удалось восстановить картину выступлений Рихтера в Харькове. В наш город он приезжал шесть раз* (с 1938 по 1966 годы). С.Рихтер выступал в залах филармонии, консерватории, театра оперы и балета имени Н.В.Лысенко, театра имени Т.Г.Шевченко, в 60-е годы в киноконцертном зале «Украина» в его исполнении звучали соната h-moll Листа и «Времена года» П.И.Чайковского, 7-я соната Прокофьева и фантазия C-dur Шумана, Концерт Римского-Корсакова и 3-й концерт** Прокофьева, сонаты Моцарта и Бетховена, произведения Шопена, Дебюсси, Рахманинова.
Каждый концерт – праздник для харьковчан. И сам музыкант с радостью выступал в нашем городе. Главный дирижер Харьковской филармонии в те годы И.Гусман отмечал в игре Рихтера необыкновенную одухотворенность, большой артистический темперамент, феноменальную виртуозность и мощь звучания.
Музыкант завораживал своей игрой с первого звука. «В лице Рихтера – перед нами одна из самых ярких вершин достижений мирового исполнительского искусства. Его фортепианное мастерство настолько велико, что не замечаешь ни напряженной предварительной работы пианиста, ни труднейших задач, которые ставят перед ним творения композитора. Весь арсенал выразительных средств инструмента подчинен одной цели – передать содержание музыки. Только полная, творческая свобода и позволяет исполнителю стать настоящим художником.
В произведениях Моцарта и Бетховена Рихтер открывает слушателям их подлинную человечность, мудрую простоту, ясность и оптимизм»1.
Много лет (1959–1978) была директором харьковской областной филармонии Вера Алексеевна Бондаренко – легендарная для музыкантов старшего поколения личность. При её непосредственном участии организовывались концерты известнейших и талантливейших музыкантов: Дж.Огдона, М.Ростроповича, Я.Флиэра, Д.Ойстрака, Н.Штаркмана и, конечно же, С.Рихтера. По роду своей деятельности Вера Алексеевна была ближе других к Рихтеру и лучше многих знала его: организация гастролей, подготовка афиш и программ, встречи и проводы, присутствие на выступлениях. Кроме того, она встречалась с Рихтером и в Москве, приезжая на совещания в Министерство культуры СССР. Я очень признательна Вере Алексеевне за ее рассказ:
«В те годы в Харьков приезжали многие выдающиеся, музыканты. Мы организовывали концерты Н.Штаркмана, Р.Керера, М.Ростроповича, Я.Флиэра и многих других. Молодые исполнители (к примеру В.Норейко) перед конкурсными испытаниями любили “обкатать” программы с харьковским симфоническим оркестром. Сообщение Москва-Харьков удобное – ночь в поезде и утром на месте. Рихтер приезжал в Харьков с удовольствием, любил харьковских слушателей, оказывал содействие в приобретении рояля “Стенвей” для харьковской филармонии. Это была выдающаяся личность. Мне было легко с ним общаться, хотя и некоторые сложности тоже были.
Помню несколько концертов Рихтера в Харькове с сольными программами. На одном из концертов (зимой 1962–1963) Музыканту дарили цветы в горшочках с землей... А за 40 минут до отхода поезда с Южного вокзала Рихтер вдруг попросил показать ему парки и достопримечательности города...
Рихтер не любил давать интервью, ограничивал общение с окружающими, просил, чтобы транспорт стоял, как можно ближе к выходу из помещения. И все же Юрию Леонидовичу Щербинину (харьковскому музыковеду и фотохудожнику) удалось “разговорить” Маэстро. Это было в мае 1966 года. Я стояла рядом и слышала все ответы Рихтера. На вопрос, почему он не занимается педагогической деятельностью, Рихтер ответил: “Считаю, что надо заниматься одним делом. И ведь не всем дано быть педагогами”.
В мае 1966 года Рихтер приехал в Харьков последний раз. После концерта в Кировограде (Рихтер любил выступать на родине своего великого учителя Г.Г.Нейгауза) Рихтер на автомобиле через Полтаву, где мы его встречали, приехал в Харьков. Буквально за день до выступления в киноконцертном зале “Украина” он заменил всю программу. В предельно сжатые сроки надо было тиражировать новую программу. Зал “Украина” в жаркое время года, при отсутствии кондиционеров и наличии стучащих пластмассовых креслах был не идеальным местом для концертов. Ко всему еще одна из слушателей шумно перелистывала ноты во время игры. Я заметила, что Рихтер нервничает. В перерыве он мне сказал: “Если Вы не уберете эту женщину из зала, я играть больше не буду. Она пришла слушать музыку или меня проверять?!”.
Мне случалось помогать в организации гастролей Рихтера в других республиках СССР. В Грузию Рихтер попал из Курска через Харьков благодаря моей помощи. Был и другой случай. За рубеж Рихтер всегда ездил с главным администратором Концертного зала имени Чайковского в Москве. Однажды мне позвонили из Москвы и спросили, не смогу ли я заменить заболевшего администратора и сопровождать Рихтера, заметив, что со мной он поедет с удовольствием.
После 1966 года Рихтер не приезжал в Харьков, так как его концертные выступления внутри страны были ограничены. Он стоил очень дорого за рубежом, а это приносило большой доход государству.
А харьковчан он любил, и никаких обид на Харьков у него не было».
Харьковский музыковед Ю.Щербинин собрал уникальный фотоархив посещений нашего города выдающимися музыкантами. Увлечение фотографией стало его второй профессией. Несколько десятков фотографий Рихтера являются редчайшим документальным историческим материалом. О своих встречах с Рихтером он вспоминает:
«Детали первых двух встреч с С.Рихтером почти стерлись в памяти, оставив лишь ощущение чего- то очень доброго, светлого и безмерно глубокого по красоте чувств и мощи мастерства.
Помню, как в конце 50-х моя мама, А.Лаврова, тогда преподавательница по классу фортепиано Харьковского музыкального училища, взяла меня на встречу с Рихтером в консерваторию. Я только начинал обнаруживать свою страсть к фотографии, ставшую к сегодняшнему дню моей судьбой и смыслом бытия. От той далекой встречи с великим артистом сохранились только два-три любительских фото, а пленки, проявленные неумелой рукой, так и ушли в Лету.
Вспоминается зимний вечер, кажется, в начале 1960-х годов, когда было приостановлено движение троллейбусов на улице Сумской у здания филармонии. Толпы жаждущих попасть на концерт С.Рихтера запрудили тротуар и проезжую часть, пытаясь прорваться в небольшой, но очень уютный зал, где совсем недавно играли Л.Оборин и Л.Флиэр, дирижировал К.Цекки и неистовствовал Д.Ойстрах. Счастливчики, заполнившие старые скрипучие кресла, проходы партера и балкона, с нетерпением ожидали начала долгожданного концерта, который почему-то задерживался. Я был у двери дирекции, когда пронеслось: “Рихтер не может пройти сюда, нужно что-то сделать!”. И вижу внизу, у раздевалки, в плотной неподвижной толпе фигуру высокого, немного сутуловатого человека в серой клетчатой кепке, прижимающего к груди нотную папку. Озабоченно улыбаясь, он, видимо, пытался что-то объяснить окружающим, но его не слушали. Администратору, директору и работникам сцены пришлось приложить немало усилий, чтобы вызволить артиста из плена поклонников его таланта, так и не узнавших в нем своего кумира.
Странное это было зрелище! Стоял я тогда на балконе у открытого окна. Вижу завороженный магией звуков зал и тут же притихшую толпу на противоположной стороне Сумской улицы, куда достаточно явственно доносились звуки рояля. Аплодировали и зал, и улица одновременно! Как жаль, что не было у меня в руках фотоаппарата! Тогда я даже не мечтал о том, что пройдет еще два-три года и мне посчастливиться не только слушать Рихтера, но и очень тесно общаться с ним.
Еще в начале мая 1966 года редакция газеты “Соціалістична Харківщина” (ныне газета “Слобода”) поручила мне, тогда общественному редактору единственной в стране музыкальной информационно-дискуссионной страницы “Мелодия”, написать рецензию на предстоящий концерт С.Рихтера.
Около шести часов вечера в понедельник 23 мая я совершенно случайно оказался около гостиницы “Харьков” и заметил в тени деревьев знакомую фигуру главного администратора филармонии Зиновия Аркадьевича Фишелева и директора Веру Алексеевну Бондаренко. “Ожидаем Рихтера”, – сказал Зиновий Аркадьевич и поспешил к подъезжающей “Волге”. Рядом с шофером – улыбающийся Святослав Теофилович Рихтер, позади него неизменная спутница, я бы сказал – ангел-хранитель, супруга (в недавнем прошлом великолепная певица, а в те годы преподаватель Московской консерватории) Нина Львовна Дорлиак.
Святослав Теофилович сразу узнает меня и радушно протягивает руку для приветствия прямо из машины, другой пытается натянуть на плечи пиджак. Помогаю открыть дверцу и выйти. Я на седьмом небе от счастья! И фотоаппарат со мной (кстати, с той поры я с ним никогда не расстаюсь).
Словно и не прошло года с прошлой встречи, когда в течение трех дней я имел счастье присутствовать на репетициях и концертах С.Рихтера в киноконцертном зале “Украина”, перелистывать вместе с ним роскошное подарочное издание “Кобзаря” Т.Шевченко, приобретенное С.Рихтером у нас в городе, более часа беседовать с ним о животрепещущих проблемах искусства во всех его многообразных проявлениях. И можно ли забыть поистине детский восторг великого пианиста, когда я подарил ему из своего архива пожелтевшую концертную программку знаменитой ученицы Ф.Листа Веры Тимановой. Святослав Теофилович Рихтер надолго погрузился в изучение этой реликвии и потом, как бы очнувшись от забытья, сказал: “Как интересно выстроена программа!.. Это нужно обязательно попробовать...”. Помню, как, беседуя со мной о необходимости бережного отношения к авторскому тексту композитора, об органическом слиянии ассоциативного мышления и фантазии в исполнительном искусстве, Святослав Теофилович временами внезапно отключался, уходил в себя. Было бы грех обижаться на него в эти мгновения. Мне казались эти мгновения неприкосновенной отрешенности великим счастьем приобщения к великой непостижимой тайне гениальности. “Пробовал преподавать в консерватории, не получилось – это не мое. Я сцену люблю...” – сказал тогда С.Т. и начал собираться на прогулку по городу. В таких прогулках, по утверждению Н.Дорлиак, он предпочитал полное одиночество. Положив в полотняную сумку альбомчик для зарисовок, проверив заточенность карандашей, он спросил меня, как удобнее пройти на ул. Свердлова, 30 (ныне Полтавский шлях, 30). На мою реплику, стоит ли тратить силы перед концертом на прогулку в столь непрезентабельный, пыльный район Харькова, Святослав Теофилович жестко ответил: “Я давно мечтал побывать в Харькове, там, где работали замечательный музыкант Илья Ильич Слатин и его друзья, там, где бывали П.Чайковский, А.Рубинштейн, С.Танеев ...вот именно в музыкальном училище на Свердлова...”
Вспомнилось мне, какое возмущение вызвало у пианиста неграмотное оформление программки его концертов в Харькове. Он был вне себя, сказав, что, если не будет всё исправлено, не будут указаны тональности и опусы исполняемых произведений, он тотчас уезжает и отказывается от выступления. Тут же на двух синеньких листках 13 блокнота он написал своим бисерным почерком то, на чем настаивал. Нужно отдать должное руководству филармонии, да и городскому начальству, сумевшим в считанные часы до концерта переделать полуторатысячный тираж программки.
Мы снова в конце мая 1966 года у гостиницы ‘Харьков”. Наконец-то Святослав Теофилович справляется с пиджаком, надевает на плечо черную кожаную сумку. Улыбается. Полной грудью вдыхает последождевой воздух.
– Как доехали?
– Чудесно! Очень хорошо...
Помогаем вытащить чемоданы – два больших, один серый крокодиловой кожи, кожаный коричневый, безумно тяжелый с нотами, и сумку.
– Как Вам понравились Сумы?
(В этот год С.Т.Рихтер начал осуществлять свой замысел – побывать во всех городах страны – и начал эти туры с Украины.)
– Замечательный город. Чудесная публика. Бывает же: хорошая публика – инструмент никуда не годный, и наоборот».
----------------------------------------------------------------------
1Ракитин В. «Красное знамя», 31 августа, 1965 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Дополнения Ю.Б.
* В Харькове Рихтер дал 9 сольных концертов, 3 – с оркестром и 2 – с Ниной Дорлиак, а не шесть, как утверждает один из авторов. Первый концерт в Харькове состоялся 22/10/49.
** Рихтер никогда не играл 3-й концерт Прокофьева. 18/11/1958 с оркестром под управлением А.Жюрайтиса он исполнил 5-й концерт.
М.Чистова.
"Музыкальная жизнь", 2009, №11.
В доме Рихтера


Воспоминания Наталии Александровны Фоминой, ученицы Г.Г.Нейгауза (её книга "Когда строку диктует чувство" вышла мизерным тиражом в Казани - 2010 год, изд-во Казанской консерватории).
Но сначала несколько слов от себя – то, что я узнал из телефонного разговора с Наталией Александровной, с которой познакомился благодаря Валерию Воскобойникову, ученику Генриха Густавовича.
Живя в Казани, она долгое время не имела возможности бывать в Москве, и вот, после длительного перерыва, в конце 75-го, приехав в Москву, попала
на концерт Рихтера и Кагана 3/12/75 в Большом зале Дома литераторов с программой:
BEETHOVEN
Sonata No.2 for Violin and Piano in A,
Op.12/2
Sonata No.4 for Violin and Piano in a, Op.23
----------------
Sonata No.5 for Violin and Piano in F,
Op.24
[MOZART
Sonata No.29 for Violin and Piano "Andante in A and Fugue in a", K.402
Sonata No.31 for
Violin and Piano in C, K.404]
После концерта она встретилась с Рихтером и сказала, что в его игре чувствуется молодость, но еще появилась мудрость. Маэстро спросил: «Мудрость – это скука?»

Н.А.Фомина о Нейгаузе, Рихтере и Ведерникове
К друзьям Святослава Рихтера меня, конечно, никак причислять нельзя, но мы много общались. Познакомилась я с ним в доме Анаиды Степановны на дне рождения ее мужа, задолго до встречи с Генрихом Густавовичем. Я была еще школьница, и Анаида Степановна «гоняла» меня, как прислугу, а вот Рихтер ухаживал за мной в тот вечер, как за вполне взрослой дамой. Генрих Густавович обожал Рихтера. В их отношениях царила абсолютная взаимность и гармония. И удивительно: я говорила о том, что мы никогда не ощущали никакой дистанции между нашим учителем и нами, а вот Рихтер пишет: в присутствии Генриха Густавовича он часто терялся.
Рихтер должен был закончить консерваторию еще до войны. А после войны они с Толей Ведерниковым вообще решили не получать дипломов, дескать, незачем. Кстати, таких людей было достаточно много. Однако, в конце концов, их заставили сдать какие-то экзамены и получить диплом. Рихтеру поставили по марксизму «три», и он потом смущенно рассказывал: «Мне подсказывали. Я слышал. Но как-то неудобно было повторить!» Вместо госэкзамена по специальности ему зачли чуть ли не десяток концертов в Большом зале.
До Генриха Густавовича Рихтер ни у кого не занимался. Он мне рассказывал, что попытался походить в музыкальную школу, но быстро бросил: «Не мог понять, почему я должен заниматься музыкой с двенадцати до часу, если мне хочется с часу до двух». Конечно, поначалу с ним занимался отец, но вряд ли он мог многому его научить. На уроках с Генрихом Густавовичем, по рассказам самого Рихтера, больше всего разговоров было о звуке. И на протяжении тех нескольких лет, когда я имела возможность постоянно слушать его исполнение, качество звука, безусловно, улучшалось.
Думаю, что и само обучение было несколько другим, чем с обычными студентами. Однажды произошел такой случай. Году в 45-м Рихтер зашел в класс, и Генрих Густавович предложил ему поиграть. Святослав сел за рояль и сыграл, не вставая со стула, весь первый том ХТК, еще какие-то пьесы И. С. Баха и Итальянский концерт. «Ну, Слава, теперь расскажи ребятам, как ты занимался», - попросил Генрих Густавович. - «Я учил, как все, - по страницам», - смутился Слава. (И это истинная правда! Он именно так и занимался - по страницам, мог прервать чуть ли не на полутакте - там, где эта страница заканчивалась. Но ведь надо иметь такую голову, как у Рихтера, чтобы потом все собрать!) - «Занимался часа по три-четыре, и у меня ничего не выходило, но потом я позанимался два дня по 10 часов, и все сразу вышло. И я считаю: чем вот так зря терять время, лучше позаниматься как следует пару дней - все сразу выйдет!»
Он считал, что можно играть произведение целиком прямо на эстраде. И я знаю доподлинно: были такие «маленькие» произведения, вроде «Юморески» Шумана, всего-то на полчаса, которые так и учили «по страницам» и играли целиком сразу на эстраде.
В фильме «Непокоренный» Рихтер говорит, что никогда много не занимался. Но все-таки иногда, значит, бывало и по 10 часов! Правда, я знаю, были и такие времена, когда он подолгу вообще не подходил к инструменту. Ведерников, к примеру, считал: больше трех с половиной часов играть вредно, но зато занятия должны быть регулярными, обязательно каждый день и при любых условиях. Когда он в Казани сидел в жюри всероссийского конкурса, то в перерывах, когда все шли пообедать или отдохнуть, Толя шел в класс.
Они оба, и Ведерников, и Рихтер, очень внимательно следили, буквально по часам, сколько времени позанимались. Толя как-то рассказывал мне, как они однажды подсчитали, кто сколько занимался за год, и радостно сообщил: «Вышло, что я занимался больше».
Несомненно, Рихтер волновался на эстраде. Однажды я застала такую сценку-разговор. Приехала к нему домой. Он всегда что-нибудь затевал, и на этот раз они собрались играть в восемь рук Рождественскую ораторию Баха. Исполнители: Рихтер, Ведерников - на одном рояле, Вера Шубина (концертмейстер Нины Дорлиак), Элла Селькина - на другом. Рояли развернули клавиатурами друг к другу. А у Рихтера была такая милая манера занятий (между прочим, очень ценная, только никто ее не выдерживал): «Не сойти мне с этого места, пока не будет звучать так, как я хочу!» Сели репетировать. Естественно, предполагалось исключительно «домашнее» исполнение для жен и близких друзей. Однако готовились они к нему вполне всерьез. Я застала такой момент репетиции: заканчивается первый номер, они берут первый аккорд второго, но, поскольку рояли стоят так, что исполнители друг друга не видят, аккорд получается «не вместе». Рихтер руководит. Повторяют без конца. Ведерников, который занимался так же, как все мы, грешные, уже начинает кипятиться, ворчит: «Нам уже скоро играть, а мы три номера еще совсем не проходили». Рихтер неумолим: «Но, Толя, если мы сейчас не можем вместе сыграть, то что же будет, когда мы будем играть и волноваться?» (И это для жен и друзей!) - Ведерников: «А почему мы будем волноваться?» - Рихтер: «Ну, это вам хорошо говорить, а я этому очень подвержен».
Однажды Ведерников со смехом рассказывал мне еще один случай с Рихтером, который считал, что некоторые технические трудности нужно доводить до автоматизма. Скажем, если учишь скачки, то лучше смотреть в этот момент на другую руку, так сказать, переключать внимание. И вот однажды он играл эпизод, где в одной руке - скачки, а в другой - паузы. Что делать? Приучился хлопать себя в этот момент по колену. Так потом ему пришлось очень долго себя от этой привычки отучать.
Любопытны были и другие его способы преодоления технических сложностей. Так, например, о Втором этюде Шопена он мне сказал, что он «...совсем легкий! Надо только не обращать внимания на правую руку».
Гулбат Торадзе
«Музыкальная академия» 2011, №1
Россия в содружестве братских культур. Грузия.
ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКИХ...
Г.Нейгауз и С.Рихтер: тбилисские страницы биографии
Воспоминания – это единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны.
Жан-Поль Рихтер
Генрих Густавович Нейгауз (1888–1964) и Святослав Теофилович Рихтер (1915–1997) несомненно, самые харизматические фигуры русского (советского) пианистического корпуса. Оба они – великий Учитель и великий Ученик – были тесно связаны и творчески, и человечески с Грузией, где их несравненное, вдохновенное искусство неизменно пользовалось горячей любовью и признанием.
Грустная китайская сентенция гласит: Часы идут, дни бегут, годы – летят! Все меньше остается людей, лично знавших и слушавших этих вдохновенных творцов, музыкантов от Бога.
Не могу, к сожалению, похвалиться близким знакомством с великими пианистами, но никогда не забудутся не только их выступления на концертной эстраде, но и, пусть даже краткие, минуты общения с ними, одарившие незабываемыми воспоминаниями...
Так случилось, что впервые я увидел и услышал Рихтера, в далеком 1943 году, и лишь потом уже его учителя – Генриха Густавовича Нейгауза. А произошло это по той простой причине, что Учитель в то время пребывал «в краях не столь отдаленных», попросту говоря, сначала в застенках Лубянки, а затем в «почетной» ссылке в Свердловской области.
И все-таки начну свой рассказ именно с Генриха Густавовича, первым установившего связи с Грузией и грузинской музыкальной общественностью еще в 1916 году, когда его будущему ученику был всего один год.
Как известно, Нейгауз два года (1916–1918) проработал в Тифлисском музыкальном училище, выступал с концертами, сразу же став любимцем местной публики. И в последующие годы он неоднократно приезжал в Грузию (среди учеников проф. Нейгауза несколько грузинских пианистов).
Я же, как и все мое поколение, впервые познакомился с маститым музыкантом лишь в 1947 году, когда он часто и подолгу стал наезжать в Тбилиси, давал открытые уроки и консультации в консерватории, устраивал концерты, в том числе и «закрытые» (только для педагогов и студентов).
Навсегда запомнился один из них – зимой
1949 года. Нейгауз играл своих любимых композиторов – Шопена и Скрябина. Концерт подошел к концу. Сыграв Седьмую сонату Скрябина (большая смелость для того времени!), Генрих Густавович застыл на минуту у рояля, словно собираясь с мыслями, и затем с улыбкой обратился к залу со словами: « Мы здесь все свои – музыканты и поэтому я хочу с познавательной целью сыграть для вас последние сочинения Скрябина – прелюдии opus 74».
Слова эти нуждаются в пояснении. Дело в том, что прошел лишь год после пресловутого погромного Постановления ЦКВКП (б), фактически запретившего исполнение многих и многих замечательных произведений музыки XX века (в том числе, разумеется, всех поздних сочинений Скрябина) как «атональных», «формалистических», «космополитических» и т.д.
Бедный, но, одновременно, и бесстрашный Генрих Густавович! Ведь мало кто бы отважился на такое в то время!
На нас же, слушателей, исполнение изысканнейших творений Скрябина произвело потрясающее, незабываемое впечатление.
А теперь должен удивить читателей, сказав, что в те годы Нейгауз играл (хотите верьте, хотите нет) в перчатках! Да, да, в шерстяных перчатках, с вырезами для кончиков пальцев! Дело в том, что, оказывается, пианист страдал каким-то ревматическим заболеванием, что, наверное, еще усугублялось недостаточной утепленностью помещений.
После своих «закрытых» консерваторских концертов Генрих Густавович имел обыкновение беседовать с педагогами и студентами, отвечал на вопросы. А я как-то даже отважился обратиться к нему с просьбой сыграть на следующем концерте, почему-то очень редко исполняемый вальс As-dur (opus 64) Шопена. Нейгауз пообещал это сделать и спросил с улыбкой, почему меня заинтересовал именно этот вальс, на что я ответил, что неоднократно слушал его в исполнении замечательного, как мне кажется, пианиста Владимира Пахмана. Тут, явно очень удивленный, Генрих Густавович обратился ко мне с вопросом, где и каким образом мне довелось слушать этого совершенно неизвестного у нас пианиста, признанного «шопениста». Я отвечал, что грампластинку с записью этого шопеновского вальса, а также полонеза cis-moll, как-то привезли из-за рубежа родители моего близкого друга (Германа Симонидзе). И тут пришла очередь удивиться мне и слушавшим нас, когда Генрих Густавович рассказал, что, оказывается, у Пахмана была такая весьма необычная привычка: во время исполнения он порой начинал комментировать свою игру – хвалил или наоборот критиковал ее.
Много позже, когда вышла большая серия грампластинок «Выдающиеся пианисты мира», я смог убедиться в справедливости этих слов. Во время прослушивания пластинок с записью Пахмана, действительно, то и дело слышались какие-то слова и даже фразы, которые, правда, невозможно было разобрать. Могу добавить, что абсолютно все вышесказанное подтверждает известная немецкая музыкальная энциклопедия Римана, но ни в одной нашей музыкальной энциклопедии советских времен не найдется даже упоминания о пианисте Владимире Пахмане.
К глубокому сожалению, на этом мои воспоминания о великом музыканте – пианисте и педагоге – Г.Нейгаузе исчерпываются, но не могу в заключение не привести одно высказывание тех времен остроумного, порой саркастичного Генриха Густавовича. Послушав очень не понравившееся ему исполнение одним пианистом «Баркароллы» Шопена, он сказал: «Это была не «Баркаролла», а товарный поезд! Убийственно, хоть и точно!».
А теперь, тоже, к сожалению, небольшое, воспоминание о Святославе Рихтере. Впервые его имя я – ученик 7-го класса музыкальной десятилетки – услышал где-то в конце сентября 1943 года, встретив на улице свою прежнюю учительницу Нину Александровну Михайлову (супругу поэта Колау Надирадзе). Она предложила зайти к ней завтра утром домой, где у нее занимается молодой, очень талантливый пианист, приехавший из Москвы, который на днях должен дать концерт в консерватории. Как я позже выяснил, Рихтера ей рекомендовал, вернее, просил за него ее бывший педагог – хороший музыкант (а, кстати, и шахматист) Эдуард Тальвик по причине, что тому, почти никому не известному молодому пианисту, попросту негде было заниматься!
Я не преминул воспользоваться предложением и на другой день заявился к тете Нине, жившей тогда на улице Джапаридзе (ныне ул. Паоло Иашвили). Как мне помнится, Слава почти все два часа моего там пребывания занимался прелюдиями и фугами Баха.
Примерно через неделю должен был состояться концерт. К моему удивлению, зал был заполнен лишь наполовину. Видимо, имя молодого пианиста мало что говорило тогда любителям музыки, хотя стало известно, что Рихтер дружит с нашей замечательной художницей Еленой Ахвледиани. К тому же выяснилось, что некому объявлять программу. Попросили это сделать меня, что я и исполнил с готовностью. Пианист несколько озадачил присутствовавших своим концертным «костюмом» (за отсутствием другого, подходящего) совершенно непривычной в то время желтой кожаной курткой и большущими американскими ботинками. Играл же Слава вдохновенно и с блеском – прелюдию и фугу (не помню уже, какую) Баха, Двадцать восьмую сонату Бетховена и «Фантастические пьесы» Шумана, вызвав восторг слушателей. Рихтер после этого еще целый месяц пробыл в Тбилиси, дал еще два концерта. Меня же, как выяснилось, запомнил. Годы спустя, всегда здоровался с дружеской улыбкой.
А теперь хочу предложить читателям знаменательную, позднейшую, дневниковую запись пианиста: «Я впервые выучил и сыграл второй том Баха в 1943-ем году в Тбилиси... Сначала играл для студентов, а потом в концерте (тогда же впервые играл «Аппассионату»). Это, собственно, и было началом моей карьеры» .
Как говорится, яснее не скажешь! Спасибо, Слава!
Следующие мои незабываемые воспоминания связаны с 1951 годом. В Малом зале консерватории уже широко признанный пианист играл для нас – студентов и педагогов – «Аппассионату»: Играл поистине вдохновенно, буквально наэлектризовав весь зал. Когда он закончил, я и сидевший рядом со мной профессор Г.Чхиквадзе, словно сговорившись, движимые каким-то внутренним импульсом, вскочили на ноги. Оглянулись – весь зал тоже стоял на ногах!
Это было одним из сильнейших, когда-либо испытанных мною «эстетических потрясений»!
Гениально играл в Большом зале Сонату си минор Листа и Большую сонату Чайковского. В другой раз – Второй концерт Рахманинова, сонаты (6-ю и 7-ю) Прокофьева, «Колокола сквозь листья» Дебюсси, многое, многое другое, неизменно вызывая восторг публики.
Особенно памятным для меня оказалось выступление Рихтера в зале нашего Оперного театра весной 1960 года. После того, как он, сыграв на «бис» «Баркароллу» Шопена, закончил выступление, я прошел за кулисы, поздравил его и спросил: «А помните, как ее («Баркароллу») играл Генрих Густавович?». Ответ Рихтера буквально потряс меня: «Да, но он играл лучше!».
Так мог сказать только по-настоящему великий человек, великий творец-художник, каковым, конечно же, был и остается Святослав Теофилович Рихтер.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
* См. Монсенжон Б. Рихтер. Дневники и диалоги. М., 2007. С. 146.
М.Чистова.
"Музыкальная жизнь", 2011, №6
Возвращение к Рихтеру
Юрий Константинович Гавердовский.
Воспоминания, размышления
С благословения Юрия-из-Киева вывешиваю здесь серию своих старых заметок на эту тему, от которых и теперь не отказываюсь. Если кого-то это будет раздражать, заранее прошу прощения.
1. РИХТЕР. …Который день погружен в Рихтера, и ничего другого не способен делать. Вспомнив о его записи новеллет Шумана (с отчаянными воплями восторга японцев по их окончании), стал опять слушать и компоновать на пленках фонограммы, заново открывать для себя давно мне известные диски, стал еще и еще раз перечитывать свидетельства о нем. Последнее – том Бруно Монсенжона, сделанный по следам фильма «Рихтер непокоренный». Всё вызывает восхищение, удивление, дорога каждая деталь…
Давно уже не могу без волнения думать и говорить об этом человеке. Кликушество? Старческая сентиментальность? Но ведь я не один такой!
…Вот Артур Рубинштейн, почти восьмидесятилетний, приезжает к умирающему Нейгаузу в больницу и первое, что он произносит, сев рядом, это: «Скажи, что же такое - Рихтер?». И Г.Г., найдя силы и приподнявшись на локте, с волнением и гордостью рассказывает…
…Вот Леонард Бернстайн – человек далеко не сентиментальный! – после концерта является к Рихтеру и (в белом костюме) падает перед ним на колени.
…Вот Наталья Дмитриевна Журавлева, вместо того, чтобы вести концерт Рихтера, навзрыд – после баллады Шопена – плачет за кулисами и, в ответ на укор С.Т. («Нельзя же так относиться к своим обязанностям»), произносит: «Нельзя так играть!!».
…А вот эпизод с моим давним «знакомцем» Кабалевским (неохотно признававшемся мне: «Рихтер, конечно – гений»). В книге С.Хентовой Д.Б. вспоминает, как пришел к слушателям 1-го курса с четырехручным клавиром Третьей Малера (для ознакомительного прослушивания) и как после ряда неудач с другими студентами застенчиво поднялся угловатый ярко-рыжий юноша и, смущаясь, произнес: «Попробую…». Д.Б.: «Он быстрой походкой подошел к роялю, сел рядом со мной за первую партию. Уже после первых тактов – говорит Д.Б. – я перестал понимать что происходит. Такой талантливой и мастерской игры с листа я никогда, кажется, не встречал. Сознаюсь, честно, я – профессор! – еле-еле свел концы с концами, чувствуя явное превосходство над собой этого незнакомого студента с огромными руками. Когда мы доиграли первую часть симфонии, я спросил своего юного партнера: «Как ваша фамилия?. Он опять почему-то смутился и ответил: Рихтер».
Или вот: Д.А.Рабинович (написавший впоследствии превосходное эссе об С.Т. в книге «Портреты пианистов»), выскочив в фойе БЗ после первого отделения концерта молодого Рихтера (начало 50-х), стал возбужденно восклицать: «Он же гений! Гений!».
Я перебираю все это, вспоминаю, перечитываю, всматриваюсь в фотографии. Как он был красив и в юности («Светик»), и в старости («маэстро»)!.. Красив не только внешне. Как поразительно, ренессансно талантлив решительно во всем.
Страстно, взахлеб хочется кому-то рассказать о нем, о его Музыке, личности, рассказать так, чтобы тебя по-настоящему поняли, согласились с тобой почему так важно (должно быть важно) для людей, что существуют явления, подобные Рихтеру (впрочем – кто еще?!). Рассказать о том, как я, слушал его «Аппассионату» летом безумно далекого уже 60-го года…
2. БОРИС ПОКРОВСКИЙ О РИХТЕРЕ: «Он имел дар видеть музыку и слышать действие. Природа оперного искусства была его собственностью; смею уверять – и его великим даром.
Как-то об этом мы разговаривали с Ростроповичем. Он сказал мне: «Рихтер, когда играет одну из сонат Бетховена, видит некую женщину в белом платье, идущую по саду. И всегда в одном и том же месте».
Я передал этот разговор Рихтеру.
– Чушь! – гневно ответил он мне.
– Славка всегда фантазирует всякую ерунду! И, подумав немного, добавил:
– Она почти никогда не появляется в белом платье! Да и откуда там белое платье, если звучит си бемоль минор? Правда, когда она заходит за куст, на котором трепещут листики и попадает в луч солнца... Помните, там несколько тактов, будто бы скерцо?
Подумав и словно проверив «в уме», как звучат такты сонаты, Рихтер, как бы между прочим, как само собою разумеющееся, говорит:
– Кстати, выйдя из-за куста, она обычно идет к озеру, которое, вы помните, в глубине сада. Так что она оказывается ко мне спиной...
И снова пауза.
– Ха, эта выдумка с белым платьем, как будто там ля мажор!
Я согласился, что озеро в глубине сада; увидел и некую рябь, пробежавшую по воде... И, конечно, дама в темном платье. Все это я увидел, мне это вообразить было легко... Я, кажется, уже и музыку услышал...».
3. ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ РИХТЕРА. Ю.Борисов назвал свою книжку «По направлению к Рихтеру», с аллюзией от Пруста. И не случайно – С.Т. обожал Пруста, постоянно его перечитывая. Почему?
Читая «По направлению к Свану», начинаю понимать. Набредаю, например, на следующее (в части «Имена стран: имя» лирический герой субъективно отождествляет известные ему места, превращая название каждого из них в систему образов): «...можно ли сделать выбор между Байе, величественным в своей драгоценной бледно-красной короне, на самом высоком зубце которой горело золото второго слога в названии города; Витрэ, в имени которого закрытый звук «э» вычерчивал на старинном витраже ромбы черного дерева; уютным Ломбалем, белизна которого – это переход от желтизны яичной скорлупы к жемчужно-серому цвету; Кутансом, этим нормандским собором, который увенчивает башней из сливочного масла скопление жирных светло-желтых согласных в конце его имени...» и т. д. То есть – система самых разнообразных чувственных ассоциаций, материализующих всё, до каждого звука в имени города.
И становится понятной система художнического отождествления, смолоду выработанная Рихтером. Вот примеры образной развертки разных произведений в сознании С.Т.
Бах. О прелюдии и фуге c-moll из 1-го тома ХТК: «Взгляд совы. Никак не соглашусь, что относится «к нечисти». В ней столько мудрости, хладнокровия. Но в фуге все-таки поедает маленьких птичек».
Бетховен, о багатели h-moll, op.126: «Велосипедная гонка – я видел ее из окна машины. Такой же бешеный темп. Все жмут на педали, а кто-то плетется в хвосте. Его жалко».
Шуман, о «Симфонических этюдах»: «Львы, орлы и куропатки... – помните у Чехова? Я-то помню, как читала Алиса Коонен у Таирова... Она стояла около рояля, а сзади светила луна...».
Брамс, о 8-й вариации из вариаций на тему Паганини (1-я тетрадь): «Человек с похмелья, требующий рассол. Но нет ничего, кроме воды из-под крана. По этому поводу страшное возмущение, гнев».
Шопен, о Четвертой балладе: «...только божьи коровки и музыканты! Кроме них – никого!.. Небо соткано из клавиатур, а человек из семи нот...».
Равель, о пьесе «Лодка в океане»: «...не важно кто и что в лодке. Важно – что под лодкой. А там – рыбы».
Рахманинов. О прелюдии fis-moll, ор.23: Богоматерь Одигитрия. Путеводительница! Я ей поклоняюсь. Видел эту икону в Эрмитаже. У нее в руках отрок. Икона плохо сохранилась, поэтому отрок остался без левого глаза. Я смотрел в его открытый правый... и вдруг услышал, как Богоматерь шепчет: «Это я помогала монаху Теофилу».
Стравинский. Об опере «Похождения повесы»: «Первое потрясение, когда Том размечтался о Лондоне... А в музыке такая щемящая боль: шемящая, саднящая... Хотите я вам сыграю?.. Вот скрипки... очень резко, как будто сорвали кожу... А вот самое главное: кларнет и душа».
4. ПОГРУЖЕНИЕ В МУЗЫКУ. Когда-то я писал о сосредоточености творчества Гуго Вольфа. Рихтеру это свойственно в высшей степени. Его невозможно представить себе меланхолически расслабленным, размагниченным, тем паче – равнодушным. Лишь изредка, под давлением неведомой нам духовной мглы, его покидает дуэнде, тот самый бес Лорки, который вселяет в художника искру божественной игры, и тогда звуки, извлекаемые пальцами Рихтера, охладевают. Но и тогда не становятся они дряблыми, безучастными, ум его остается ясен, хотя и не согрет, быть может, в этот момент особым, рихтеровским горением.
Невольно сравниваю его с Гилельсом, который играет как… Петросян за шахматной доской: с виртуозной точностью, филигранно, безукоризненно академично и… скучновато.
Атомник Слотин, смертельно рискуя, сдвинул полусуммы урана, почти вызвав цепную реакцию. Порой кажется, что Рихтер играет на таком же инструменте, балансируя на грани взрыва. Никто кроме него не решается этого делать.
5. ДЕВЯТОЕ ИЮНЯ 1960 ГОДА. Рихтер играет Бетховена. Третья, Двадцать вторая и Двадцать третья сонаты.
Это исполнение «Аппассионаты» (запечатленное на диске) – самое потрясающее событие моей музыкальной жизни. Прозвучавшее в тот вечер, можно, вероятно, услышать изощренным внутренним слухом или в счастливом сне, но наяву такое никогда и ни у кого не звучало. И прозвучит ли еще когда-нибудь!
Уже в первой части Рихтер взял такую высоту, такую страшную, невозвратную напряженность действия, что шквал, последовавший затем в финале, просто не мог быть иным. Он был подобен стремительному погружению в водоворот.
Сидя в кресле и конвульсивно сжимая поручни, я чувствовал, что погружаюсь в пекло, бесконтрольно поднимаясь с места…
…Овации длились минут пятнадцать, но бисов, разумеется, не последовало.
Разве можно после этого слушать что-то еще?
6. ИЗ ПИСЬМА ЮРИЮ БОХОНОВУ. Июньский концерт 60-го года с `Аппассионатой`, конечно, помню, но скорее уже эмоциональной памятью, нежели в трезвых деталях. Прошло уже полвека. Я был завсегдатаем МГК, скупал фортепьянные и симфонические абонементы так, чтобы там были все концерты Рихтера. Впрочем, и других пианистов слушал в изобилии. Обо многих уже теперь забыли, а ведь это были и Софроницкий, и Юдина, и Оборин, и Ведерников, и Зак и многие другие, включая молодых еще тогда Власенко, Малинина, Башкирова. Слыхивал и гастролеров...
На том концерте С.Т. играл три сонаты Бетховена - 3-ю, 22-ю и 23-ю. Говорили, что С.Т. болен и, быть может, концерт отложат. Но он таки вышел – с опозданием минут на 20. Быстро, замкнуто, прошел в своем коротком пиджаке к роялю, сел, выдержал паузу, глянув как-то искоса, мимо партера, вправо-вверх от себя, быстро растер руки и – начал мою любимую до мажорную сонату. А `Аппассионата` стояла во втором отделении, и только она одна. Уже первые три звука точно наэлектризовали воздух, казалось, что в зале как-то сумрачно, и это сразу совпало с `ночным` колоритом сонаты. То, как С.Т. `набросился` на побочную партию просто потрясало своей энергией, шквалом чувств. А после вариаций второй части и восклицания с началом финала началось что-то невообразимое – водоворот страстей. Я потерял контроль над собой и, сжимая поручни кресла, начал неосозненно вставать, казалось, что всё вокруг раскаляется...
Овации длились минут двадцать. С.Т. выходил трижды, но бисов, конечно, не было и быть не могло.
Позже вышел диск с этой записью, которую я узнаю не только по накалу чувства, но и по характерной двойной ноте в финале, которая не получилась... У меня есть еще одна запись `Аппассионаты` 60-го года, но осенняя. И ее, похоже, передавали только что по радио `Орфей` – по случаю ДР С.Т. Она похолоднее, чем июньская.
Вы упомянули `Картинки с выставки`. Не могу не отметить, что кроме известной записи `Мелодии` есть, конечно известная Вам, софийская запись `Картинок`, технически плохая, но ошеломляющая особенной рихтеровской энергией, реактивностью, нервоподъемностью. В раннем Р. вообще потрясает эта энергетика, не имеющая ничего общего с банальной виртуозностью (5 пьес из `Золушки`, 2-я соната Шимановского и др.).
7. ИЗ АРТИСТИЧЕСКОЙ ВЫПОРХНУЛ САМ. …Прихожу в Малый зал на абонементный рахманиновский концерт, и первым номером программы заявлена виолончельная соната с С.Кнушевицким и А.Дедюхиным. Внезапно на сцене появляется ведущий и произносит: «В связи с болезнью пианиста Александра Дедюхина, в сегодняшнем концерте выступит Святослав Рихтер!».
Вот так подарок!
Отыграв сонату, Рихтер исполняет затем вереницу прелюдий. Во время одной из них рояль внезапно съехал вбок, но Рихтер невозмутимо подвинул вслед за ним стул и как ни в чем не бывало, продолжал, манерно склонив голову набок и выпятив нижнюю челюсть.
По окончании концерта уходить никак не хотелось, и я толокся на узкой лестнице, ведущей из зала к выходу, прямо перед дверью в артистическую. Здесь же, на площадке, отирая нездоровое пятнисто-розовое лицо, возбужденно курил Святослав Кнушевицкий, и до меня донеслось: «… а он с листа играет запросто…». Речь шла, конечно, о Рихтере, который спас концерт, сыграв сонату экспромтом.
И вдруг туда же, на площадку, из артистической выпорхнул Сам. Моложавый, рыжий, с бисеринками пота на лбу, в свободном сером пальто, он был оживлен и, вероятно, доволен произошедшим. Торопливо поблагодарив налетевших на него поклонников и мило раскланиваясь, он быстро пожал несколько ладоней своей огромной лапой в красноватой поросли (а я, идиот, стою совсем рядом, рядом и – не смею шелохнуться!) и – исчез.
8. ОЧЕРЕДНОЙ КОНЦЕРТ С РИХТЕРОМ. Как всегда в одном из первых рядов партера Дмитрий Николаевич Журавлев. Сверху, с балкона, вижу его темя с волосами бубликом и челку надо лбом со странной впадиной. После каждого номера он, как всегда истово хлопает, высоко поднимая ладони над головой и счастливо смеется, адресуясь к соседке, вероятно к Наталье Дмитриевне (которая часто сопровождает С.Т. в его гастрольных поездках по стране).
Рихтер нынче – чистенький, какой-то весь белый, благодушный, наконец-то лысый (удалил-таки свою поперечную прядь, маскировавшую темя). Отыграв, он непринужденно нюхает поднесенный ему букетик фиалок и, откладывая его в сторону, возвращается к роялю… Виден его огромный череп рядом с маленькой головой ассистентки, перелистывающей ноты «Еврейской увертюры» Прокофьева.
9. РИХТЕР – ГИЛЕЛЬС (пост на форуме Алексея Ботвинова). Дорогой Алексей, хочу обратиться к Вам, как к замечательному пианисту-профессионалу, с вопросом несколько деликатного свойства. В одной ТВ-передаче Р.К.Щедрин рассказывал о своем учителе Я.В.Флиере и рикошетом коснулся еще двух имен - Э.Г.Гилельса и С.Т.Рихтера. Было отчетливо видно, что – признавая выдающиеся качества Рихтера, он отдает предпочтение Гилельсу. И все бы ничего, кому, как говорится, поп, а кому попадья. Но Щедрин говорил о Рихтере с ощутимым раздражением... (Когда-то я общался с Д.Б.Кабалевским, взахлеб говорил ему о Рихтере, и он кисловато сказал: «Конечно, гениален, но мне не нравятся некоторые его взгляды на искусство». Тогда я не понял намека... Но теперь я не допускаю, что Щедрин мог бы «не любить» Рихтера по каким-то таким же соображениям, далеким от собственно искусства).
Конечно, можно сравнивать и в целом и по частностям и будет всяко. Еще во времена моей молодости, когда Гилельс уже давно был во славе, а имя Рихтера только начинало греметь (задолго до его появления на Западе), постоянно шли споры - кто из них `лучше`. Помню, кто-то в БЗК, после концерта Рихтера ернически бросил: `Гений, конечно, но с годами будет играть все хуже, а Гилельс - все лучше`. К сожалению, шутник оказался в чем-то прав. Поздний Рихтер порой разочаровывает (в частности - в последних сонатах Бетховена, где, казалось бы, именно Рихтеру и слово), тогда как выступления Гилельса вплоть до самого его ухода были порой изумительны (Григ, 2-я и 3-я сонаты Шопена и др.).Но все же, все же...
Я много слушал Рихтера и вживе (практически все его концерты до 80-х г.г.) и, тем более, в записях. Его «Аппассионата» 9 июня 1960 г. в БЗК - один из самых потрясающих дней в моей жизни... Мог бы назвать еще целый ряд вещей, в исполнении которых Рихтер стоит настолько выше всех и всего, что даже странно сравнивать. Это просто совершенно другая музыка! Тут и почти все бетховенские сонаты, из тех, которые он играл (особенно 1-я, 3-я, 7-я, 17-я, 23-я, 27-я), 33 вариации, багатели (как бледен, кстати сказать, в тех же багателях – в сравнении с Рихтером – Глен Гульд...). Это сонаты и «Скиталец» Шуберта, совершенно потрясающий Шуман (до мажорная фантазия, «Пестрые листки», Симфонические этюды, новеллеты, токката, Концерт и др.), «Картинки с выставки» (особенно ранняя болгарская запись, в которой энергия Р., его `нервоподъемность` совершенно ошеломляют!), 5-я и 6-я сонаты и этюды Скрябина, Рахманинов (достаточно послушать как он играет си-бемоль мажорную прелюдию!!!), Дебюсси (абсолютно гениальные «Шаги на снегу» и «Затонувший собор»), Равель («Лодка в океане»!!!), Шимановский (2-я соната), Концерт Бриттена, Прокофьев, конечно (четыре последние сонаты, пьесы из «Золушки»), ну и многое, многое другое. Да что говорить!
Я не буду пытаться анализировать искусство Рихтера, его проникновение в образ, его виртуозность, которая всегда была подчинена задаче решения образа, а не стремлению поразить беглостью пальчиков (чем отличаются многие современные ребята, молодые пианисты). Г.Г.Нейгауз печально шутил по этому поводу: `Теперь все х о р о ш о играют`.
Так вот , Гилельс-Рихтер... Эмиль Григорьевич был, конечно, большой музыкант, благородный художник, но... Как-то давно (когда чемпионом мира по шахматам стал Петросян) мы с друзьями спорили, и я сказал: порой мне кажется, что Гилельс играет на рояле как Петросян в шахматы, но ведь есть Таль...
Каково Ваше мнение по этому поводу? Что такое пианизм тех же Гилельса и Рихтера, в чем здесь заковыка, и почему такой большой музыкант, как Щедрин мог бы предпочитать Гилельса, за что?
10. ПОЗДНИЙ РИХТЕР. Как-то, после очередного триумфа Каспарова, почтительно-восторженный комментатор заметил, что чемпион вообще «играет в какие-то другие шахматы»… И вот я слушаю, наконец, три последние сонаты Бетховена – с Рихтером. Как я этого хотел! Но это – какой-то другой Бетховен. Всё не «так». По первому впечатлению – растянуто, странно, предельно аналитично, точно не сами сонаты, а комментарий к ним на мастер-классе. Привычно «выигрышные» места (звуки «грозы» в 31-й, крещендо в 32-й) затушеваны, смазаны. Скорбная тема в ариозо (так похожая на баховскую арию «Weinen, Klagen…») отнюдь не становится, как обычно, «моментом истины». Все общепринятые акценты сдвинуты… Другой Бетховен и, другой, «поздний» Рихтер.
В западных журналах любят давать ретроспективные фотопортреты: «Такой-то в 86-м году, такой-то в 94-м…». Человек один и тот же, а лицо разное. Неискушенный меломан, услышав т а к о г о Рихтера – без бравуры, брильянтности и проч. – совсем скривился бы (один такой любитель, стоявший у прилавка магазина «Мелодия» во время оно, на мое упоминание о Рихтере сказал: «Ну, этот-то, ковыряла»).
Каждый художник это – процесс, а не состояние, непрерывная смена состояний. И каждая вещь, созданная композитором, в каждом исполнителе проживает вместе с ним целую жизнь. Ноты те же, а музыка разная. Недаром почитатели Софроницкого ценят все его дубли, так как знают – он играл все время по-разному. Не понимать этого, значит не понимать ни жизни музыки, ни внутреннего процесса исполнителя. Да, поздний Рихтер порой меня озадачивает, ибо я неправомерно ожидаю от него бурных страстей 60-х годов, а на дворе, увы, 90-е, и сам маэстро, слушая свои поздние записи, с обескураживающей снисходительностью к самому себе (так на него не похожей!), благодушно говорит: «Ну что же… для 75-летнего пианиста неплохо…».
…Название фильма Монсенжона подается по-разному. Но принятое у нас – «Рихтер непокоренный» – оказалось наиболее точным. Этот болезненно худой, с трудом говорящий человек, представший на экране, никак не хочет, не желает примириться с чудовищной несправедливостью – болезнями, старостью, которые отрывают его от Музыки, столь им любимой…
11. АВГУСТ 1997 ГОДА. Мы в Чернышево, и я слышу по радио: «Москва прощается с величайшим пианистом современности Святославом Рихтером».
Конечно, последние годы С.Т. был уже не тот. Все уже свершилось задолго до его физического ухода, и он успел пережить, возможно (да пережил ли?), даже скрытно-отрицательные отзывы о своих московских выступлениях.
Вспоминаю заметки самого С.Т. о С.С.Прокофьеве – такие же гениальные, как и все остальное, что он делал. Он писал, что уход С.С. его как-то не очень уж огорчил. Он сравнивал Прокофьева с явлением природы и великими классиками. Не убиваюсь же я, писал он, что, вот, нет Гайдна…
Что-то похожее со мной, но – горько. Художник Рихтер не только был, но и есть. Он – навсегда. Но исчезновение Человека Рихтера с планеты Земля, выключение его биополя, вызывает ощущение пустоты, точно годы с Рихтером, прошедшие в моей собственной жизни, канули в чудовищный темный провал.

Леонид Евгеньевич Гаккель.
Бесценное
В 1915 году, вскоре после рождения Святослава Теофиловича Рихтера, мир покинули А.Н.Скрябин и С.И.Танеев, и, как мне кажется, судьбе было угодно сделать нашего великого пианиста воплощением тех свойств, которыми обладали ушедшие. К нему перешел скрябинский идеализм — жизненный и творческий, и не было в России XX века никого, кто служил бы чистоте музыкального искусства так пламенно и с таким напряжением духовных сил, как это делал Рихтер. А от Танеева достались ему строгость и правильность, то есть переживание художественного мира как объективного закона, как совершенной архитектуры.
Знала ли современная фортепианная эстрада кого-нибудь, чья звучность обладала такой же прозрачностью, а ритм — такой же мерностью, как у Рихтера, знала ли она исполнителя, чей рояль представлял бы музыку "в её чистой духовности", как это удавалось рихтеровскому роялю.
Едва ли так, и если явление Рихтера в пианизме есть чудо само по себе, то некое двойное чудо — это пребывание подобного артиста в Советском Союзе. Прямые удары зла настигали его здесь, равно как и ждали многие злые соблазны.
Трагическая — почти на античный лад — судьба семьи, гротесково искривленный рисунок профессиональной карьеры (первый выезд на Запад в 45—летнем возрасте), позднейшие фарисейские превознесения со стороны властей, лишь отяжелявшие ношу рихтеровского одиночества.
Но недаром же русская культура передала Рихтеру танеевско-скрябинское наследство, она знала, что ждёт артиста, и укрепила его. А что говорить о других великих покровителях, о пожизненных спутниках нашего мастера: Шуберте с его музыкальной поэзией «человека—странника», Шопена с его томящим и печалящим целомудрием, оперном Вагнере, открывающем всю бездну "немецкого", Бетховене, космос которого беспределен?..
Они оберегали Рихтера и вели его за собой, но и он укреплял их жизненные силы — так бывает только в исполнительстве, — он продлевал и возвьшал их судьбы. И это всё оказывалось таким немыслимо—плодотворным, таким прекрасным и мудрым — встречные деяния композитора и исполнителя, — что зло казалось отступившим, а советская реальность делалась несущественной. Неужели сейчас, когда Рихтера нет, мы будем вспоминать, что он жил "при Хрущеве", "при Брежневе" ? Не вспомнили бы, если год за годом не подрывались бы физические силы гениального музыканта.
Какая потрясающая плотность смыслов в этих имени, отчестве и фамилии: Святослав Теофилович Рихтер. Здесь прославление святости, любовь к Богу (Тео — фил) и правильность, верность (немецкое «richt»).
А говорят о случайности имён: да ими все определилось в даровании, морали и облике артиста, в его служении Добру.
Сколько нас — "из рода людского" — побывало на концертах Рихтера за полвека его деятельности? Вероятно, сотни тысяч. Сколько слышало его записи, знает его имя? Больше на порядок, на два порядка. Остальные не знают ничего о нём.
Но свет великих людей неизбирателен, и, не будь Рихтера, мы иначе видели бы себя и своё существование на земле. Как все гении музыки, он не может служить жизненным примером, музыка слишком таинственна, чтобы назидать. Рихтер просто присутствует в бытийном составе каждого из нас, и нам от этого становится легче.
***
Стоя на моей нынешней возрастной ступени, видишь, что прожитая жизнь достаточно скудна, что впечатлений в ней мало, и если в нашем общем жизненном сюжете, который называется "Святослав Рихтер", у меня имеется несколько эпизодов с личной окраской, то они кажутся бесценными. Вот некоторые из них.
«Самый трудный...»
Конец 1940-х — начало 1950-х годов. Будучи в Ленинграде, Рихтер посещает Среднюю специальную школу при Консерватории (в просторечии — Десятилетку), играет в зале Школы. После этого в тесной, неуютной артистической его обступают ученики, он говорит с ними, отвечает на их вопросы; один из учеников — ваш покорный слуга — вежливо спрашивает:
"Скажите, пожалуйста, кто, по-вашему, самый трудный композитор?"
Ответ следует мгновенно: «Моцарт».
Недоумение и разочарование десятилетних школьников очевидны: что в Моцарте трудного? Ни октав, ни пассажей.
Серьезность незабываемого ответа открывалась постепенно — вплоть до посмертного явления артиста, а именно видеофильма "Рихтер, непокоренный". «Ничего в голове не остаётся, — говорит он там о моцартовской музыке, — В чём же секрет Моцарта? Никакого ответа».
Два смысла сочетаются друг с другом в полувековой дистанции. "Самый трудный" вовсе не означает «самый желанный и "самый любимый"; речь идет о "тяжелой ноше" в точном соответствии с начальным значением слова "трудный".
С Моцартом психологически не сблизиться, отчего груз исполнительских проблем возрастает до предела; для Рихтера взаимное приятие исполнителя и композитора есть органика артистического существования, и если здесь что—то не в порядке, ремесло перестает быть послушным.
«Не мог не обернуться ему вслед»
Начало 1950-х годов, поздняя весна. Мы с моим школьным приятелем прогуливаемся по Невскому проспекту вблизи Европейской гостиницы. Навстречу идет Рихтер: огромный и при этом необыкновенно стройный, в широком черном пальто и кепке. Движется неторопливо и плавно. Позже я прочел у него о великом композиторе — современнике: "Он прошел мимо меня как явление. ... Я не мог не обернуться ему вслед".
Наши тогдашние ощущения можно сейчас передать в тех же словах. Мы знали, кто "прошел мимо" и пристроились вслед, после чего довольно долго сопровождали издали Святослава Теофиловича, получая от этого мальчишеское удовольствие. Рихтер заметил нас и, возможно, испытал некоторое беспокойство. Он не мог не знать, что входит в нашу (мою) жизнь, но у меня никогда не было случая сказать ему об этом.
Я видел его и во дворе своего дома, и он опять был огромным и стройным, опять двигался неторопливо и плавно с белой коробочкой пирожных в руке: шел он, как выяснилось для меня много позже, к Томашевским, его давним ленинградским друзьям и нашим соседям по дому. Снова — явление; белая коробочка подчеркивала его несоразмерность быту, и это открыло цепь смыслов, которая, как и в случае с "трудным Моцартом", замкнулась после смерти Святослава Теофиловича.
Видеофильм "Рихтер, непокоренный" показал нам его где-то па берегу в черном пальто и маленькой кепке; вспомнился Б.Л.Пастернак в шапке-пирожке на макушке... Каково им было существовать, если они родились величиной с тот мир людей и вещей, внутри которого потом пребывали? Каково равному входить в равное или большему в меньшее?
"В корне не согласен с Вашей трактовкой..."
У меня есть три письма от Святослава Теофиловича и еще одно, написанное по его поручению, видимо, литературным секретарем. В первом из писем Рихтер незамедлительно и точно отвечает на вопросы, касающиеся Четвертой сонаты и Первого фортепианного концерта Прокофьева: когда и где он их впервые сыграл. Эти вопросы я задавал в связи со статьей "Прокофьев и советские пианисты" (1964), в которой главное место занимал Рихтер.
Не избалованный ничьим вниманием, был воистину счастлив и горд рихтеровским письмом, присланным так быстро; восхитила и точность ответов — я тогда ещё не знал, что Рихтер в особых тетрадях подробно фиксирует свои "труды и дни". Личными письмами Святослав Теофилович поблагодарил за почтительно преподнесённые по почте статью мою о нём — в одном случае, книгу "Фортепианная музыка XX века" — в другом. Последний случай особенно замечателен. В конверт была вложена открытка с изображением парижского Пантеона; на ней уместилось довольно много текста. Приведу его концовку (вслед за лестными для меня словами о книге):
"Если разрешите, то вот два несогласия.
1. Я считаю последнюю часть хиндемитовского Концерта ор. 36 №1 как раз самой значительной в этом прекрасном сочинении.
2. В корне не согласен с Вашей трактовкой Шестой сонаты Прокофьева — произведения оптимистичного, полного задорной прокофьевской энергии (и юмора)".
(Без даты: по почтовому штемпелю — 2 мая 1977 года).
Откликаться на подобные ответные знаки как—то не принято (чтобы в одностороннем порядке не навязывать переписки вашему корреспонденту), но если бы я решился на отклик, то первого несогласия не тронул, а о втором написал бы так: "Дорогой Святослав Теофилович, но ведь это Вы внушили мне понимание Шестой сонаты Прокофьева как трагического произведения".
Не забыть концерта в Большом зале Ленинградской филармонии 16 апреля 1964 года, когда Рихтер играл Шестую после сонаты ор.120 Шуберта и пьес Брамса: сколько в ней было тревоги, сколько ударных звучаний, каким "нашествием" стала первая часть с её жёсткой маршевой поступью. Как—то совсем не думалось об оптимизме и юморе. Скорее, о них подумаешь сейчас, перечитывая письмо Святослава Теофиловича.
На склоне лет трагическое делается для тебя явлением такой глубины, что с ним не может отождествиться прокофьевский инструментальный театр (считая фортепианные произведения), последнему место где—то ближе к поверхности, к внешнему слою жизни, где обычно и копится "задорная энергия"...
Рихтеровские письма перечитываешь, а с годами всё чаще и пересматриваешь: они ведь необыкновенно красивы. Говорили когда—то о почерке Пастернака: "будто летят птицы"; таким же «летящим» почерком обладали — иначе не могло быть — Пушкин и Блок; такой же почерк, такая же рука у Рихтера: крупно, с «взвивающимися» заглавными буквами, длинными росчерками — графически выражены величие, свобода и порыв этого человека.
«Такси уже пришло»
Есть, конечно, предопределённость в том, что первое из сочинений, упомянутых в рихтеровской открытке — Kammermusik, op. 36 №1, Хиндемита — год спустя стало предметом и фоном моей единственной личной беседы со Святославом Теофиловичем, а лучше сказать, его беседы со мной.
В начале лета 1978 года я ездил в Москву в связи с предполагавшимся переходом из Ленинградской консерватории в Московскую; в этом меня поддержал ряд московских профессоров, среди которых, к моему радостному удивлению, оказалась Н.Л. Дорлиак. Более того, Нина Львовна заинтересованно участвовала в моих делах; несколько раз она назначала мне встречи для обсуждения ситуации и просто в знак дружеского расположения.
Одна такая встреча (скорее, во втором значении, нежели в первом) произошла в Большом зале Консерватории на дневной репетиции Рихтера. Маэстро играл Kammermusik , op . 36 № 1, Хиндемита с ансамблем студентов Московской консерватории. Как известно, хиндемитовское сочинение написано для облигатного фортепиано и двенадцати инструментов соло; студенты - ансамблисты располагались на эстраде полукругом, в центре за роялем находился Рихтер.
Мне назначено было придти ко второй половине репетиции; у Святослава Теофиловича оказался как раз маленький перерыв. Нина Львовна представила меня; после приветливого рукопожатия Рихтер сразу же заговорил о том, какое чудесное произведение Kammermusik Хиндемита, какой это вообще замечательный композитор, быть может, лучший композитор XX века.
Я не мог разделить подобного энтузиазма, но понимал, что таково неизбежное настроение артиста, играющего данную музыку в данный момент. Отмечать ли, что Рихтер репетировал с необыкновенным подъемом?
После перерыва играли финал ("самую убедительную и значительную часть"), дошли до середины, маэстро что-то не понравилось — я, признаться, не уловил, что именно, — остановились, начали сначала. Сыграли почти до конца, опять остановились — и опять сначала.
Чувствовалось, что молодые партнёры Святослава Теофиловича устали, он же казался неутомимым. Дождавшись паузы, Нина Львовна сообщила из зала, что для маэстро уже вызвано такси.
Репетиция не заканчивается, а. скорее прерывается; молодые люди на эстраде собирают свои инструменты. Рихтер остается за роялем; он снова — уже без сопровождения — играет финал.
Из зала раздается почти отчаянное: «Такси уже пришло!» Маэстро с силой отрывает себя от рояля. Мы прощаемся.
***
За свою жизнь я сорок два раза присутствовал на концертах Рихтера (считая камерные и симфонические программы). Семь раз писал о нём; следовательно, сейчас пишу в восьмой раз. Чего только не произошло за это время; имею в виду даже и не исторические события, но иное понимание вещей, диктуемое переменами жизненного возраста (по Хлебникову "обновление истины" происходит для нас каждые 28 лет). Многое отступило, потеряло бытийную силу, «перестало держать», и в случае музыканта—профессионала это касается композиторов, исполнителей, словно бы и самой музыки. Что в ней когда—то волновало, теперь забавляет, что увлекало новизной, теперь кажется мёртвым (имён, разумеется, не называю).
***
Я сказал бы, что Святослав Рихтер стоит незыблемо, если бы и его истина не обновлялась, если бы она не росла в своём значении. Сегодня артист воплощает дли меня величие жизненного и художественного идеализма. Это исключает сравнительные оценки и делает невозможной даже самую малую долю лицемерия в приятии Рихтера—исполнителя; теперь, когда для него наступила вечность, снимаются и любые этикетные условности. В России жил и живёт святой музыкант. Разумеется, его концертов больше не будет. Но ничто не мешает думать о нём, идти за ним и любить его, изумляясь — в который раз – божественному предназначению человеческой памяти.
(статья опубликована в 2000 году)
10 апр. 2014 г.
РИККАРДО МУТИ: “МЕЖДУ НОТ”. О ШУБЕРТЕ, РИХТЕРЕ, ФЕЛЛИНИ, РОТА...
Маэстро, у меня к вам накопились сотни вопросов. К сожалению, нельзя объять необъятное, поэтому в нашей сегодняшней беседе я бы хотел затронуть темы, которые вы еще не обсуждали с журналистами в Чикаго. Например, ваша дружба со Святославом Рихтером. В Автобиографии вы описываете вашу первую встречу в Сиене в марте 1968 года. Можно ли назвать ее началом вашей дружбы?
Да, это было начало нашего музыкального сотрудничества и дружбы. Когда Рихтер узнал, что дирижером на его концерте будет какой-то молодой, неизвестный Риккардо Мути, он захотел проверить, хороший ли Мути музыкант. А я только что выиграл Международный конкурс дирижеров и преподавал фортепиано в Миланской консерватории (Риккардо Мути говорит о Международном конкурсе дирижеров имени Гвидо Кантелли в Милане в 1967 году, на котором он был удостоен Первой премии. – Прим. автора.) Рихтер высказал желание со мной встретиться, но не сказал, зачем. Он не спросил, играю ли я на фортепиано, но сказал, что ожидает меня с нотами. Будучи неаполитанцем, я подумал, что вряд ли он просто захотел увидеть мое лицо. (Улыбается.) Конечно, он хотел меня проэкзаменовать. Переводчик представил меня Рихтеру в фантастически большом зале Музыкальной академии Киджи в Сиене. В центре зала стояли два рояля – оба “Steinway”. Я тут же подумал, как я был прав. Недалеко от роялей стоял гигант - Рихтер ведь был высокий мужчина. Очень приятный, очень интеллигентный. Он пожал мне руку, сказал “Prego” и указал на рояль. Я сел за один рояль, он – за другой. Мы сыграли от начала до конца Фортепианный концерт Моцарта си бемоль мажор. Во время игры краем глаза я замечал, как он наблюдал за мной. Когда мы закончили, он сказал: “А теперь - Бриттен”. После Моцарта мы должны были играть Фортепианный концерт Бриттена - очень сложный, в пяти частях, с большой оркестровой частью. Мы без перерыва сыграли весь концерт. Закончив, Рихтер подозвал переводчика и сказал мне: “Если вы дирижируете так же, как играете, вы – хороший музыкант. Я согласен играть с вами”. В тот дождливый вечер 1968 года на улицах Сиены никого не было. Я возвращался один, сияя от переполнявшей меня радости...
- Мне кажется, этот эпизод многое говорит о Рихтере как о музыканте.
- Конечно! Для Рихтера было естественно, что молодой дирижер владеет искусством фортепианной игры. Это сегодня все только дирижируют. Не играют на фортепиано, не учатся композиции – сразу дирижируют. Дирижирование стало модной профессией. Если ты плохо играешь на флейте или виолончели, значит, ты – плохой музыкант. А дирижировать легко. Чего там – крути дирижерской палочкой, а оркестр сыграет. Так думают сегодня многие, забывая слова Тосканини: “Дирижировать может любой осел, но только немногие могут исполнять музыку”... После экзамена в Сиене у нас был концерт во Флоренции. Был огромный успех... А вот еще один случай. Мы играли в Генуе Фортепианный концерт Равеля для левой руки. Во время выступления Рихтер вдруг на мгновение остановился. Я смог сохранить темп оркестра, а он сумел “вернуться в строй”. После финальных аккордов была овация, мы повторили весь Концерт. Рихтер хотел взять реванш, и у него это получилось. На следующее утро мы встретились на вокзале. Рихтер подошел ко мне и попросил партитуру Концерта. Он стал перелистывать страницы, потом остановился на одной, взял ручку и расписался: “Святослав Рихтер”. Это было то место, которое он забыл. Он протянул мне партитуру со словами: “Я хочу, чтобы каждый раз, когда вы будете дирижировать этим Концертом, вы вспоминали о моей ошибке”. Эта партитура хранится у меня дома. Карандашом я написал небольшой комментарий. Когда меня не будет, люди, к которым попадет моя библиотека, должны знать, почему вдруг внутри партитуры на одной из страниц хранится автограф Рихтера... Моя семья и я – мы все любили Славу. Для меня он был одним из музыкальных “отцов”. Его гигантский талант и этический подход к музыке поражают. Он был всегда честен перед собой, его не удовлетворял результат, ему всегда хотелось большего, он всегда стремился к лучшему. Когда мы репетировали вдвоем, он двадцать минут мог обсуждать вопросы модуляции, переживал, искал абсолютный звук... Каждая модуляция должна появляться не просто так, а неожиданно. Он говорил, что все в жизни должно быть неожиданно. Когда он дарил цветы женщинам, он всегда держал их за спиной до самого последнего момента. Только, подойдя, он доставал букет. Это был сюрприз! Он говорил, что если вы приносите цветы и женщина их видит на расстоянии пятидесяти метров, эффект теряется. Он был Поэтом в жизни и в музыке. Его уход стал огромной потерей в мире культуры.
Рихтер был тем человеком, который порекомендовал вам не дирижировать по памяти, а иметь перед собой партитуру. Как вам кажется, это помогает лучше концентрироваться на музыке?
- Да. Тосканини дирижировал без партитуры. Однажды он сказал: “Все пытаются подражать мне, а на самом деле я дирижирую по памяти, потому что у меня плохое зрение, а не для того, чтобы устроить из этого шоу. Я плохо вижу, и мне приходится запоминать”. (Улыбается.) Мравинский дирижировал все по памяти, хотя, я думаю, он знал Симфонии Чайковского наизусть. Стравинский дирижировал по партитуре свою собственную музыку! В то время - конце шестидесятых – начале семидесятых – было модно дирижировать по памяти. В Зальцбурге в 1974 году Рихтер с Wiener Philharmoniker играл Фортепианный концерт Шумана. Я дирижировал оркестром. Потом Зальцбургский фестиваль выпустил CD с этой записью. Во втором отделении я дирижировал по памяти Реквиемом ре минор Керубини. За ужином Рихтер подошел ко мне и спросил: “РиккардА (все русские говорят РиккардА, маэстрА), почему вы дирижируете по памяти? Не можете прочитать партитуру?” Для меня его слова стали откровением. Каждый раз, когда я дирижировал по памяти, я немного волновался, чтобы не забыть партитуру, и фраза Рихтера заставила меня задуматься. Не так важно иметь перед глазами партитуру – важно ее знать! Но партитура дает тебе уверенность. И потом, ты с ней не расстаешься месяцами. Ноты становятся близкими, они говорят с тобой... С момента нашего разговора я все дирижировал по партитуре. Все, даже увертюры к операм “Севильский цирюльник” и “Сила судьбы”. Иначе это не имеет смысла: что-то - по нотам, что-то – по партитуре.
- Профессор Андрей Золотов вспоминал, как в 1994 году они с Рихтером слушали в Ла Скала “Валькирии” Вагнера, а после окончания спектакля зашли к вам в кабинет. Сохранилась даже фотография, где вы с Рихтером сидите на белом кожаном диване...
- Я помню, как он пришел в антракте между вторым и третьим актами, сел за рояль и стал играть музыку Вагнера.
- Он обожал Вагнера...
- И очень любил оперу. На моей свадьбе Рихтер был почетным гостем. Они с Нино Рота устроили самое настоящее музыкальное соревнование. Играли до часа ночи: один начинал тему, другой узнавал, откуда она, и продолжал. Гости разошлись, и мы с женой тоже стали собираться. Рихтер и Рота увидели, как мы уходим, и стали в четыре руки играть и петь “Ritorna vincitor” из “Аиды”. (Гости Риккардо Мути исполнили хоровой фрагмент из Первого акта оперы Верди. Дочь фараона Амнерис призывает Радамеса: “Ritorna vincitor”, то есть “С победой возвратись!” – Прим. автора.)
На пресс-конференции, посвященной объявлению нового сезона, вы говорили о Скрябине, как о композиторе будущего, и предсказали ему судьбу Малера. Ваша любовь к Скрябину – это тоже влияние Рихтера? Известно ведь, как Святослав Теофилович любил фортепианную музыку Скрябина.
- Я слушал в его исполнении Скрябина и решил познакомиться с Симфониями композитора. Да, наверно, это тоже влияние Рихтера... Он никогда не шел проторенным путем, любил необычные идеи. После одного или двух совместных концертов он подошел ко мне и сказал: “Риккардо, вы должны продирижировать симфонической поэмой Штрауса “Из Италии”. Тогда я не знал этого произведения. Позднее я исполнил и записал его с оркестром Berliner Philharmoniker. Рихтер попросил меня прислать ему запись. Он очень любил именно “Из Италии” Штрауса.
Мути напевает финальные такты поэмы и продолжает:
- “Из Италии” Штрауса оказалось одним из тех сочинений, которые определили мою карьеру... Однажды я сказал Рихтеру: “Слава, я хочу исполнить Классическую симфонию Прокофьева”. Он задумался и предложил: “Сделайте Симфониетту!” В моей дискографии есть Симфониетта Прокофьева. Никто ее не исполняет, а Рихтер предпочитал ее Классической симфонии... Кстати, я должен исполнить Симфониетту с ЧСО. Я дирижировал этим произведением только однажды... Таков был Рихтер. Не “Дон Жуан”, а “Из Италии”, не Классическая симфония, а Симфониетта. Он всегда уделял особое внимание той музыке, которую он чувствовал, всегда готов был разделить свою радость со зрителями. Он мог восторгаться несколькими тактами музыки. В “Бале-маскараде” Верди ему очень нравилась одна тема. Опера начинается так...
Маэстро подходит к роялю и начинает наигрывать начало увертюры...
- А вот вторая тема... Рихтер сходил с ума, когда слышал эти звуки. Для него они всегда звучали по-новому... Иногда мое отношение к музыке может казаться слишком строгим. Но я всегда вспоминаю моих учителей, моих старших коллег. Я несколько раз играл с великим Клаудио Аррау. Каждый раз, выходя на сцену, Аррау, обращаясь ко мне - молодому дирижеру, говорил, как он мечтает сыграть вместе. Таким был и Рихтер. Это - стиль честных, серьезных взаимоотношений, основанный на уважении к коллеге и музыке. Моцарт говорил: “Главное в музыке – не нотные значки. Главное – то, что исполняется между нот”. Великий Слава это понимал и чувствовал, как никто другой!
Наша встреча подходила к концу. Риккардо Мути подписал мне свою книгу, сфотографировался со мной на память и, к моей величайшей радости, сказал, что подпишет фотографию в следующий раз. Маэстро торопился на сцену – ему предстояла репетиция фрагментов музыки Сергея Прокофьева к балету “Ромео и Джульетта” с Civic Orchestra of Chicago. Выйдя к молодым музыкантам, дирижер начал вечер с рассказа Святослава Рихтера о трагическом дне 5 марта 1953 года. Как известно, в этот день умер не только один из величайших тиранов в истории человечества, но и один из величайших композиторов XX века Сергей Прокофьев. Цветов в Москве не было, и Рихтер пришел попрощаться с Прокофьевым, держа в руках сосновую ветку. Мне почему-то кажется, что наш разговор о Рихтере заинтересовал маэстро и навел его на мысль рассказать эту историю.
ЕКАТЕРИНА ШЕЛУХИНА. Если любишь музыку… Из сборника «Притяжение Андроникова»
Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга Москва – Санкт-Петербург, 2015.
... Большого внимания заслуживает следующая телеграмма: «ДОРОГОЙ ИРАКЛИЙ ЛУАРСАБОВИЧ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ПРЕКРАСНОЙ ДАТОЙ ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ ИСКРЕННЕ ВАШИ = ДОРЛИАК РИХТЕР»[100].
Читая её, вспоминаешь слова благодарности и восторга, обращённые Ираклием Луарсабовичем к великому пианисту. Они достойны того, чтобы процитировать их полностью:
«Святослав Теофилович!
Я не пишу дорогой, потому что это слово изношено, а обращаться к Вам со стёртыми словами – это оскорбить самого себя и то чувство, которое вот уже два дня переполняет душу и всё время заставляет думать о том, как может быть такое, без надежды найти объяснение да в сущности и не веря, что его можно найти. Здесь проходит черта, отделяющая великие явления от того – сверхвеликого, которое поразило вчера как откровение в высочайшем, библейском значении и наполнении этого слова. Сколько раз я слышал Вас, и каждый раз это новое, ещё небывалое совершенство, превосходящее Ваше же совершенство. Новое своей огромностью, открытостью, смелостью, благородством, когда музыка как бы материализуется и между Вами и человеком нет преград, нет преград между Вами и теми, чью музыку Вы сотворяете вновь. Вы наполняете души людей гордостью. Вы возвышаете их. Простите меня за эти деревянные строки, я пишу Вам без надежды выразить то, что чувствую и что думаю. Но решаюсь на это, зная, что Вы не осудите. Боже! Как возможно, чтобы каждый раз было выше и выше»[101].
Нодар Хатиашвили
Выставка картин Е. Ахвледиани у Святослава Рихтера