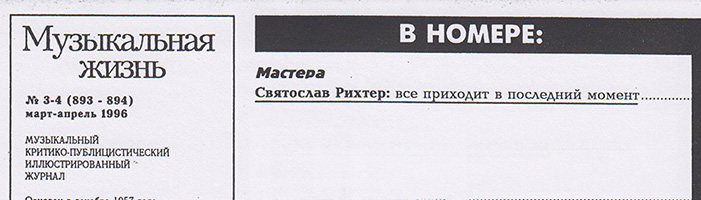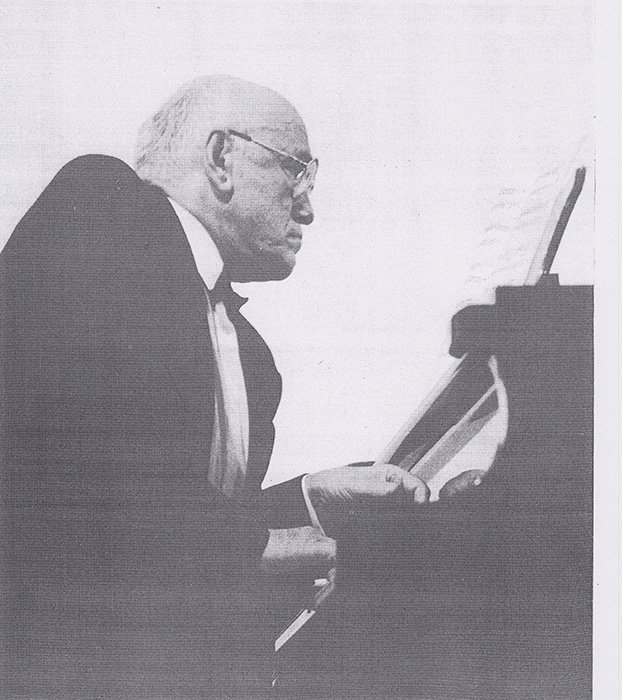1990-е
Андрей Хитрук. «О чем играет Рихтер». «Советская музыка», 1991, №8
Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого: Размышления и воспоминания.- М.: Музыка, 1991
Фото. Рихтер в ГМИИ им. Пушкина.. "Музыкальная жизнь", 1993, №2.
Фото В.Ахломова и А.Ратникова. "Музыкальная жизнь", 1993, №4.
Григорий Яковлевич Пантиелев. "В Германии весна. Играет Рихтер". Коммерсантъ-Daily. 30 марта 1995 г.
Н.Алиханова. Из статьи о Д.Н.Журавлеве "Под сенью дружных муз". "Музыкальная жизнь", 1995, №5.
Н.Д.Журавлева "Под сенью дружных муз". "Музыкальная жизнь", 1995, №7 (записала Н.Алиханова)
Святослав Рихтер: второе открытие Америки. Коммерсантъ-Daily 01 июня 1996 г.
Юрген Майер-Йостен. Всё приходит в последний момент. "Музыкальная жизнь", №3-4, 1996.
Р. Шато. СОВЕРШЕННЫЙ ПИАНИСТ. БЕСЕДА СО СВЯТОСЛАВОМ РИХТЕРОМ.
Итальянский журнал "Musica", 1982 г. Перевод Е. Куловой (Музыкальное исполнительство и современность: Вып. 2. – Научные труды Московской государственной консерватории. – Сб. 19. – М., 1997).
Владимир Шелихин. Как я "играл" с Рихтером. Опубликовано в минской газете 9 СЕНТЯБРЯ 1997г. ВТОРНИК №171 (8729).
Вера Васильевна Горностаева. "Само имя его символично". «Музыкальная жизнь» №9, 1997.
Евгений Светланов. "Мы разговаривали с Богом". «Музыкальная жизнь» №2, 1998 (о Галине Писаренко).
Т.ФООГД-СТОЯНОВА. СВЕТИК. «Музыкальная жизнь», 1998, №3.
В.Н. Чемберджи. "Охраняется человечеством". "Культура" №13 (7173) 8 - 14 апреля 1999.
Н.Д.Журавлева "Мэтр". Записала Наталья Бойко. Опубликовано в газете «Вечерний клуб», 31.07.1999
С.Хентова. РИХТЕР ПОКОРЕННЫЙ. «Музыкальная жизнь», 1999, №11.
В.Н.Чемберджи. "Бал Глори".
В.В.Горностаева. "Само имя его символично". «Музыкальная жизнь» №9, 1997.
Р. Шато. СОВЕРШЕННЫЙ ПИАНИСТ. БЕСЕДА СО СВЯТОСЛАВОМ РИХТЕРОМ.
Итальянский журнал "Musica", 1982 г. Перевод Е. Куловой (Музыкальное исполнительство и современность: Вып. 2. – Научные труды Московской государственной консерватории. – Сб. 19. – М., 1997).
Андрей Хитрук. «О чем играет Рихтер»
«Советская музыка», 1991, №8
После более чем двухлетнего отсутствия на московской эстраде целых семь (считая концерты в музыкальных школах) публичных появлений С. Рихтера за роялем в течение одного только мая иначе как неожиданностью не назовешь. Неожиданностью более чем радостной, поскольку наша концертная жизнь в отсутствие Рихтера на время лишилась — несмотря на обилие событий — какой-то фундаментальной опоры, константы, можно даже сказать своей системы координат.
Неожиданным показалось и явное доминирование в рихтеровских программах сочинений Баха. Тут и Английские, и Французские сюиты, тут и редко звучащие четыре клавирных дуэта, а также два клавирных концерта D-dur и g-moll, исполненные со студенческим оркестром Московской консерватории под управлением Ю.Николаевского (в том же концерте выступила с двумя сольными сюитами Баха и Н. Гутман).
Бах все более осознается ныне в качестве едва ли не главного «Слова», произнесенного европейской музыкальной культурой. Бах — своеобразный ее «генетический код», посредством которого сверхбудущие поколения смогут дешифровать все то неоглядное богатство и этой культуры, которое в противном случае (без Баха!), наверно, лишилось бы существенной части своей логики и великолепия. По глубокому замечанию П. Мещанинова, явление Баха в музыке сопоставимо с явлением Христа, а отсчет существования нашей музыкальной цивилизации должен идти от 1685 года, как «года ноль», разделяющего историю на период «до Баха» и «после Баха». До Рождества Баха и после Рождества Баха.
Музыка его зачастую становится главным испытанием судьбы современного музыканта, да и современного слушателя тоже. Бах сложен — сложен не только и не столько возможными несовпадениями нервного, неуравновешенного биения нашего пульса с незыблемой, не зависящей ни от темпа, ни от динамики напряженной устойчивостью и структурностью музыкального времени, но и тем, что он, Бах, — в отличие, скажем, от современных ему французских или итальянских мастеров — «слышит человека» преимущественно в трудной ситуации страдания и долга. Этот человек, в согласии с протестантской этикой, выбирает жизнь как возможность не жалеть себя и постоянно себя испытывать,— если не болью, так уж наверняка непрестанным трудом. Постоянное преодоление гедонизма, стремление к глубинному переживанию жизни ощутимо даже в сюитах, при всех отражениях в них придворной, бытовой или народно-танцевальной стихий, о чем замечательно писал в свое время Б.Яворский, не имевший, к сожалению, возможности договорить все то, что он мог и хотел сказать. Естественно, что там, где есть исполнение долга, там существует и воздаяние — в образе достигнутого равновесия, свободы от случайного, плотно окружающего человека. Человеку даруются в итоге радость и ликование. Сколько счастливых минут в баховских сюитах! Тут слышатся временами и прямо рождественские сюжеты, хотя в целом сюиты — в отличие от Хорошо темперированного клавира — не могут быть полностью включены в евангельскую орбиту. Тема Рождества ощутима, например, в Английской сюите F-dur, Французской Е-dur, может быть в замечательно сыгранном Рихтером «Эхо» из Французской увертюры. Хотя все же в «эпицентре» событий, на оси всех координа остается скорбное шествие Сарабанд, исполняющих в Сюитах роль, адекватную Сrucifixus в баховских Пассионах. Мне кажется, что именно Сарабанды, особенно два ее авторских варианта в Английской сюите g-moll, явились естественной вершиной в баховских программах Рихтера (наряду с медленными частями в обоих клавирных концертах).
В своем отклике на одно из рихтеровских выступлений Л. Наумов говорит о «скупости высшей красоты». Я убежден: эта скупость глубоко выстрадана Рихтером, создавшим на своем пути целую галерею образов — неукротимых, изящных, жестоких, романтических и классических... Бах возникает здесь (после давних, еще в 40-е годы, обращений пианиста к нему) как закономерный итог, как символ обретения музыки словно бы «по ту сторону» и воплощением духа своего отца — органиста в протестантской кирхе на Украине... Этой, видимо, не случайной ассоциации мешали лишь обилие преподносимых пианисту цветов и шквал аплодисментов, хотя, строго говоря, то были не совсем концерты, то скорее была музыка до или после, а лучше сказать — вместо подразумеваемого, но не высказанного Слова — Слова тихого, но сильного... 1
Мне почему-то кажется, что Рихтер сейчас по-своему досказывает то, о чем говорили в свое время, в своей «драме за роялем» В.Софроницкий, М.Юдина. Там была драма и соответствующий ей пафос, а здесь — в рихтеровском Бахе — слышится уже Эпилог той драмы. Скрябин, Шопен, Брамс, Бетховен, да и Бах (в трактовках Юдиной) у рихтеровских предшественников свидетельствовали о трагедии современников. Рихтер несет нам сейчас иное — идею примирения, прощения. Отсюда изобилие «рр», педального stumato, сдержанных темпов, редко прорываемых лишь в итоговых жигах... И если 50, 40, 30 лет тому назад актуальность рихтеровского творчества выражалась в исполнении Прокофьева. Бетховена, Рахманинова, Скрябина, то теперь эта актуальность с неменьшей значимостью проявилась в исполнении Баха.
Святослав Рихтер всегда говорит нам о важном, и что мне особенно хочется подчеркнуть, говорит на своем языке, на том языке, которым несравненно владеет. И говорит лучше тех, кто поспешил сменить высший язык добра и искусства на язык гнева и ненависти, и поэтому оказывается мудрее и чище многих своих современников.
-----------------------------------
1 Не забудем: концерты Рихтера были даны в память дорогих ему людей — Генриха Нейгауза и Олега Кагана. Как мало кто другой, Рихтер на протяжении всего своего творческого пути хранит верность близким себе по духу.

Дитрих Фишер-Дискау
Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого: Размышления и воспоминания.- М.: Музыка, 1991
Отзвуки былого. Фрагмент книги
Я уже рассказывал о том, какую особенную радость испытываю, вникая в концепции Святослава Рихтера. У этого пышущего энергией, иногда по-львиному завораживающего публику русского мать живет в южной части Германии - поэтому его контакты с Западом теснее, чем у других советских музыкантов. С тех пор как французы организовали для него его "собственный" фестиваль, он стал чаще всего выступать во Франции. Рихтер ценит эту страну еще и за то, что там "молодые люди так красиво кричат", - должен сказать, что я тоже люблю это акустически усиленное и потому более ощутимое выражение успеха.
После длительных переговоров с советскими должностными лицами, бесконечных уточнений, которые по своей сложности напоминали покупку коровы, мы наконец получили возможность выступить с совместными концертами в Советском Союзе. Тогда я и узнал Рихтера как легко ранимого, чувствительного человека, которому, как и его жене Нине Дорлиак, в прошлом знаменитой камерной певице, труднее, чем многим, продираться через все превратности судьбы. В невзрачной жилой башне ему удалось получить две смежные квартиры, сломать стены - так, что это производит теперь впечатление известного размаха и благополучия. Рихтер регулярно устраивал там небольшие выставки живописи и рисунка. Я попал как раз на одну из них, где были выставлены изображения его, ближайших друзей и членов семьи, среди которых мне запомнились ценнейшие рисунки Репина и Кокошки. Там я встретил вдову незадолго до того умершего композитора Дмитрия Шостаковича и скрипача Гидона Кремера, с которым мы говорили о бедах замкнутой музыкальной жизни в Советском Союзе, стоя перед огромными окнами с великолепным видом на Москву. Когда во время следующей репетиции на фоне той же самой панорамы я спросил Рихтера об истории некоторых домов, которые видны из окна, он с глубокой грустью в голосе ответил:
- Это мало кого у нас интересует...
Чередование уныния и собранности, это специфическое проявление русской души, отличает и Рихтера. Когда мы с ним и с Ниной ехали в одной машине к концертному залу и поровнялись с массами людей, которые, не имея билетов, запрудили всю улицу и не давали проехать автомобилю, Рихтер от ужаса сжался. Как раз в это время великолепный Большой зал Консерватории ремонтировали, и нам пришлось давать концерт в акустически мало приспособленном помещении, построенном в сталинские времена. Однако это не могло выбить Славу из седла, он играл, как всегда, безупречно. Подчеркну: как всегда, потому что я никогда не слышал у него ни одной фальшивой, ни одной пропущенной ноты. Игра его обладает какой-то несотворенной, строго очерченной красотой, всякий раз меня ошеломляет, как Рихтеру удается расположить в абсолютном единстве отдельные плоскости звучностей. Добавлю, что это происходит и в труднейших условиях акустики огромного средневекового амбара в Туре, в котором песчаный пол убивает в зародыше любой отзвук. Радость Славы, если концерт удался, приобретает буйные формы, его уныние по поводу чуть менее удачного концерта граничит с трагедией. Его поразило в самое сердце, что более консервативная ленинградская публика признала концерт с песнями Хуго Вольфа слишком трудным, слишком "современным".
Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого: Размышления и воспоминания.- М.: Музыка, 1991.
Фото. Рихтер в ГМИИ им. Пушкина.. "Музыкальная жизнь", 1993, №2.
Фото В.Ахломова и А.Ратникова. "Музыкальная жизнь", 1993, №4.

Григорий Яковлевич Пантиелев.
Коммерсантъ-Daily. 30 марта 1995 г.
"В Германии весна. Играет Рихтер"
80-летний юбилей Святослава Рихтера (Ъ писал о нем в номере от 18 марта) широко отмечается в Германии. День рождения был 20 марта, но до сих пор не прекращается поток радио- и телепередач, посвященных его искусству. Сам же юбиляр отнюдь не почивает на лаврах своей мировой славы: через разные города Германии пролегает маршрут его весеннего турне, которое должно привести мастера, долгое время не выступавшего в России, в Санкт-Петербург и Москву. Пока же - Григорий Пантилеев сообщает из Бремена.
Каждый, кто знаком с искусством Рихтера, помнит непередаваемое могущество его ауры, ощущение радостного, воодушевляющего общения с великим и несуетным. Он не потрясает, как Горовиц, не восхищает, как Артур Рубинштейн, он увлекает возможностью думать вместе с ним, внимать развертыванию его музыкальной мысли как актуальному процессу.
Жизненность его музицирования необычайно увлекает еще и тем, что Рихтер нисколько не скрывает того, как интенсивно он контролирует свое исполнение. Моменты, когда он собой недоволен или - что бывает гораздо реже - склонен себя похвалить, не ускользают от внимательной публики. Он вовлекает слушателя в процесс поиска своего звукового идеала, тянет за собой, переманивает на свою сторону. Вместе с ним радуешься удаче, огорчаешься промахам (очень-очень редким) -- так, как если бы за роялем сидел ты сам. Это что-то вроде музицирования среди своих: умное чувство "мы", объединяющее посетителей рихтеровских концертов -- само по себе феномен, чаще публика сплачивается в восторженную массу.
Надеюсь, что сказанному поверят на слово: это не только воспоминания, но и непосредственные впечатления от только что состоявшегося концерта. А между тем - 80 лет, подумать только! Первое отделение -- три сонаты Йозефа Гайдна (№№ 55, 68, 57), прочитанные по одной схеме: задумчиво медленное начало - незамысловато подвижное завершение. Невзирая на иногда сопротивляющийся материал, Рихтер упорно стремится перебороть столь, казалось бы, естественную динамику и порыв гайдновских сонат (даже в их первых частях, где впору не забывать о сентиментализме в духе Карла Филиппа Эммануила Баха, явно влиявшего в то время на Гайдна). Он ищет покоя, абсолютного равновесия и остается, видимо, не удовлетворен собой и неподатливостью текста, но на деле осуществляет задуманное: второго такого мудрого, умиротворенного Гайдна я не помню.
Прозвучавшие во втором отделении Вариации и фуга, соч. 86 Макса Регера (для двух фортепиано, при участии молодого пианиста Андреаса Люцевича) представили более привычного Рихтера: в основе цикла лежит бетховенская тема, и Рихтер играет вполне "аппассионатно", сочетая риторическую убедительность и страстность. Сегодня Регер исполняется мало (в России начала века он звучал чаще, повлияв, например, на Прокофьева и Мясковского), его музыку принято считать сухой, если не скучной: поэтому то, что из нее извлекает Рихтер, выходит далеко за пределы ожидаемого.
Это происходит несмотря на вполне понятное неравноправие ансамблистов: отчетливо слышно, что вот тема звучит у всеведающего мастера, а вот - у нетерпеливого, неопытного юноши. Рихтер играет вторую партию, но все равно подавляет - этому мы часто бывали свидетелями и в Москве. Знакомую краску подарил и один "внемузыкальный" эпизод. После концерта пианистов одарили пышным букетом цветов, одним на двоих. На глазах у публики Рихтер захотел разделить его, но цветы были перевязаны весьма крепко. Из-за кулис выбежал японец в полроста, из числа обслуживающих неизменную рихтеровскую "Ямаху", но и его усилия были тщетны. Рихтер решил проблему сам, как когда-то Александр Македонский разрубил гордиев узел: под восторженный рев зала он перегрыз веревку зубами и разделил букет. Пример брутальный, но делает честь темпераменту восьмидесятилетнего мастера.
Коммерсантъ-Daily 30 марта 1995 г.
Н.Алиханова.
"Музыкальная жизнь", 1995, №5.
Из статьи о Д.Н.Журавлеве "Под сенью дружных муз"
Еще в конце тридцатых годов пополз слух, что у Нейгауза в консерватории появился совершенно необыкновенной даровитости ученик. И любители музыки, люди всегда пристрастные, внимательно следили за судьбой этого талантливого ученика Нейгауза. Помню, как мы бегали тайком "под стулья" в Большой зал, в последние ряды, слушать, как этот Слава Рихтер репетирует Концерт Чайковского: он тогда, кажется, к конкурсу готовился.
Он студентом жил одно время в доме Генриха Густавовича. И когда однажды что-то там играл, показывал, Нейгауз нас пригласил к себе – так мы познакомились со Славой Рихтером. Спустя некоторое время (где-то после войны) Нина Львовна Дорлиак, с которой я дружила еще со времен консерватории, привела к нам на дачу тоненького, рыжевато-золотистого, высокого загорелого юношу. Головку он держал набок, был очень застенчив и необычайно симпатичен. И мы все (и дети тоже) предались ему абсолютно. И с тех пор началась, смею сказать, наша все более крепнувшая дружба. Мы стали бывать в доме Дорлиак и Рихтера, где в большом кабинете стояли два рояля. И он открывал нам новые миры. Конечно, мы ходили на каждый его концерт. Дмитрий Николаевич очень эмоционально воспринимал игру Рихтера. Когда Слава играл Баха, глаза Дмитрия Николаевича всегда переполнялись слезами. Играл ли он Бетховена, играл ли Моцарта, Шуберта или Дебюсси, – знакомые вещи как бы заново открывались для нас. Это было каждый раз новое прочтение композитора, с которым у пианиста были особые отношения, свой особый разговор.
В доме Рихтера и Дорлиак, где мы; конечно, присутствовали на всех знаменитых теперь "прослушиваниях" и праздниках, происходили разные чудеса – о них вам лучше меня расскажет моя дочь Наташа, которая с детства знакома со Святославом Теофиловичем и даже, смею надеяться, стала его другом.
Дружба наша продолжается и по сию пору. И когда четыре года назад Дмитрий Николаевич скончался, то Рихтер, приехав в Москву из очередной гастрольной поездки, сыграл в Музее изобразительных искусств имени Пушкина вечер памяти Журавлева. Об этом вечере вам расскажет Наташа, но одно могу сказать: Слава играл, а дух Дмитрия Николаевича витал над всеми нами...
Наталья Журавлева «Под сенью дружных муз»
«Музыкальная жизнь», 1995, №7 (записала Н.Алиханова)
Как я благодарна моим родителям, приобщившим нас к тому кругу людей и интересов, которыми сами жили. У папы вообще была дивная привычка: он никогда ничего не заставлял и не навязывал, он только своим искренним восхищением перед явлениями искусства или литературы захватывал и заражал нас. И таким образом вся наша семья в трех поколениях оказалась самым тесным образом связана с искусством; все мы считаем музыку очень важной составляющей нашей жизни. Какое счастье, что среди папиных и маминых друзей были замечательные музыканты, литераторы, художники! Что десятки лет мои родители дружили с великим музыкантом и человеком Святославом Теофиловичем Рихтером и Ниной Львовной Дорлиак!
С тех пор как они стали брать нас с сестрой на знаменитые рихтеровские "слушания" и с того времени как Святослав Теофилович избрал меня своей помощницей во многих рутинных делах, на которые у него почти не было времени, я имела возможность наблюдать его в разных обстоятельствах его жизни, восхищаться им, погружаться в незабываемую, ни на что не похожую атмосферу этого дома, дышать воздухом, насыщенным искусством и музыкой.
В общем, так получилось, что я стала бывать у Рихтера часто, очень часто. У него же громадные архивы, огромная почта. Много у него было желающих помочь ему, но что-то там не ладилось. И он позвал меня. А я, надо сказать (сейчас это трудно себе представить), была в те времена (середина шестидесятых) бешено, безумно веселая. И мы как начали хохотать: что-то делаем с этими бумагами и в то же время хохочем. В театре, где я служила, была я не очень занята, на "романы", когда нужно было помочь Рихтеру, я тут же плевала. Я могла предаваться этим его делам полностью — и у нас пошло. Он дает мне задание разобрать письма, а сам сидит, занимается. Сколько я слышала! Что он только при мне ни учил! Многие, многие часы, дни и годы моей жизни прошли под звуки рояля Рихтера...
Я не побоюсь обозначить наши отношения высоким словом "дружба": абсолютное обожание с моей стороны и очень какое-то ласковое отношение с его. Притом он не любит меня как артистку, ему не нравится, как я читаю, но это ничего не меняет. При мне он чувствует себя, очевидно, совершенно легко и свободно.
Впрочем, это вовсе не случайно: ведь я познакомилась с Рихтером в раннем детстве.
Мама уже рассказывала, как Нина Львовна привезла Рихтера к нам на дачу где-то сразу после войны. Я-то помню, что в тот момент я стояла на крыльце, а он "железно" уверяет, что я вовсе не стояла на крыльце, а вылезла в дырку из-под забора — в трусах, с двумя толстыми косами. Было мне лет шесть. И будто бы тут же начала бешено кокетничать.
Слава богу, родители очень рано начали ходить на его концерты, и дружба сразу началась между ними. Они, Рихтер и Дорлиак, бывали у наших на Вахтангова, наши бывали у них — жили ведь почти рядом, на Арбате... Мама с Ниной Львовной были на "ты", все они говорили друг другу "Нинуля", "Славочка”, а я — "дядя Слава"...
В гости тогда еще нас не брали, а на концерты брали. Я, конечно, должна признаться, что обмирала по Рихтеру и Дорлиак, это точно. Наша школа стояла как раз напротив дома, где они жили. Помнится, я отпрашивалась с урока, бежала на четвертый этаж (оттуда хорошо были видны их окна) и висела на подоконнике — вдруг голова мелькнет, вдруг уловлю взмах руки...
Вот еще раннее воспоминание. 1953 год. В мае папа попал в Ростове в страшную автомобильную катастрофу. Мама поехала туда, к нему. А Рихтеры именно в это лето сняли дачу у нас, в Новом Иерусалиме, в лесных участках. Помню, как я у них ночевала, как они брали меня с собой на концерты. Я сидела у них на террасе, а он целыми днями занимался — он всегда или занимался, или гулял. Иногда мы играли в замечательную настольную игру "Похождения юного музыканта". Это они ее придумали с художницей Анной Ивановной Трояновской. Там кидаются кости, и можно пролететь вперед или пролететь назад...
Приезжали они с Ниной Львовной прямо к нам на дачу в Новый Иерусалим. Дядя Слава и папа спали на террасе на полу (места в комнатах не хватало). По вечерам, бывало, рассматривали книги по искусству. Я вечно торчала у них за плечами, вслушиваясь в разговоры. Однажды, помнится, разглядывали чудный альбом Гогена в шикарном издании "Скира" — прекрасные смуглые полинезийки, полуголые. Дядя Слава засмеялся: "Вот заставить так ходить Тутика (это я) или Валю (наша домработница)". Я была шокирована: "Какой бессовестный! Что он говорит!". Но в эти незабываемые моменты детства я училась — училась разбираться в живописи, любить ее.
И на знаменитых "слушаниях", которые они с Ниной Львовной устраивали в своем доме, я тоже училась. Родители и судьба подарили мне это счастье. Где бы в те времена я могла услышать "Синюю Бороду" Бартока с Фишером-Дискау? Нигде! "Лоэнгрина" в первый раз в жизни я слышала там. "Летучего Голландца" с Фишером-Дискау — там.
Сколько музыки мы узнали благодаря этим домашним прослушиваниям! Просто гостей там не бывало никогда. Вот такого, знаете ли, сидения за трапезным столом я, во всяком случае, не помню. Даже встречи Нового года, когда устраивались какие-нибудь сумасшедшие балы, — обязательно при этом присутствовали специально приприготовленные номера: музыкальные, литературные. В один какой-то Новый год мы, помнится, слушали "Дон Жуана”. Когда это было? Был бы сейчас в Москве Рихтер, я бы взяла его особую тетрадочку — там уж все зафиксировано!
Однажды он показывал нам "Манон".
В первый вечер это была опера Массне. Мои коллеги-артисты Аня и Миша Маневичи сначала прочли краткое содержание оперы, а затем шло само произведение. В следующий вечер мы слушали "Манон Леско" Пуччини, с Каллас. Обязательным считалось, чтобы та публика, которая была вчера, была и сегодня. Кстати, о публике: все эти действа тщательно готовились, с пристрастием составлялся список приглашенных. А какая аудитория была в те лучшие времена! Генрих Густавович и Сильвия Федоровна Нейгаузы, Габричевские, Алпатовы, Анна Ивановна Трояновская, Геля Фальк (вдова Фалька), художник Дмитрий Михайлович Краснопевцев с женой Лилей, Анатолий Ведерников, молодой еще Стасик Нейгауз. Позже появились совсем еще молодые Олег Каган, Юра Башмет, Наташа Гутман, Лиза Леонская, Андрей Гаврилов. Обязательно — Галя Писаренко и еще какие-то ученицы Нины Львовны; Галя — любимица и помощница — была на все руки, если надо почитать какой-то текст, она и читать будет.
Компании все время менялись, приглашались молодые актеры драматических театров. Здесь Рихтер выступал как культуртрегер — нет, слово это не подходит; я бы сказала, что его деятельность была апостольской — это было несение музыки всем нам.
Святослав Теофилович очень серьезно ко всему этому относился. Ему не важно было, как человек одет, а важно, как он впитывает в себя музыку. "В коня корм" — это его выражение. Слушание музыки — это было событие, к которому надо было внутренне готовиться. Помнится, в те далекие годы перед Пасхой всегда слушали "Страсти по Иоанну" и "Страсти по Матфею", на Рождество — "Рождественскую ораторию" Баха. Однажды я пришла и сказала: "Дядя Слава, я прочитала "Евангелие от Матфея". Он просиял и так меня в макушечку радостно поцеловал: "Умница!". Вот что он ценил!
Один из самых любимых жанров Рихтера — опера. Вагнера он, например, не может слушать спокойно. Такое там он слышит, что у него вдруг сразу переполняются слезами глаза.
Рихтер огромное значение придает тому, чтобы было понятно содержание. Когда он нам показывает большие оперы на родном языке, то сам обязательно пишет аннотации на таких больших листах, где одной-двумя фразами обозначается, что в данный момент происходит. Вот, например, в "Манон" была у него одна прелестная заставка: "Прощание со столиком"; или в начале третьего акта: "Берег моря”. В прошлое лето осуществилась моя мечта: мы наконец прослушали все "Кольцо нибелунга". Когда мы слушали "Кольцо", он все лейтмотивы показывал нам на рояле, чтобы мы понимали всю роскошь и музыки, и исполнения. Еще два года назад он попросил меня по каким-то очень трудным клавирам с нескладным поднотным переводом сделать либретто и читать его. Сам он сидел целыми днями перед слушаниями и на этих своих листах вычерчивал сюжетную линию.
Притом тут я должна признаться, что я не не такая уж большая любительница слушать оперу "живьем", в театре. Мне больше нравятся записи на пластинках, на кассетах. Здесь мне не надо заставлять себя включаться в зачастую плохо поставленное действо. Конечно, многое зависит от режиссера. Святослав Теофилович объяснял мне, что постановка, все мизансцены всегда должны происходить под диктовку музыки. Мы бывали вместе на оперных репетициях и я спрашивала его: "А почему это так?". — "Ну как же, ведь музыка же!”
Мне довелось быть на репетициях в театре Бориса Александровича Покровского. Он гениально репетирует с актерами, добиваясь органичного соединения актерской игры и оперного пения. Он их учил петь так, чтобы выговаривались все согласные, и тогда будет всё понятно, он заставлял их не просто петь, а направлять пение на сценическое действие. Помнится, на первой репетиции, на которой я присутствовала, я была в состоянии шока; открыв рот, я сидела как завороженная, поедая его глазами. И он тут же, при нас, делал чудеса!
Одно время было безумное увлечение Бриттеном (мы, конечно, еще ничего о нем не знали). Рихтер тогда привез много пластинок Бриттена. Слушали "Поворот винта" — в этом сочинении какая-то особая мистика. И любимая всеми нами "зала" в темно-зеленых тонах преобразилась: горела только одна толстая свеча, и такое я помню фантастическое впечатление таинственности, ожидание ужаса — в театре подобного не ощутишь.
Рихтер всегда очень важное значение придавал тому, чтобы все было устроено по — настоящему. И мы все должны были быть соответственно настроены и одеты. Например, помнится, играли бородинцы Форелен-квинтет: жара, а музыканты в смокингах, в бабочках, и "публика" тоже соответствует...
Однажды слушали "Саломею" Рихарда Штрауса. Много было народа (Рихтер тщательно подбирал гостей, чтобы был "в коня корм"). И он заставил меня перед прослушиванием оперы прочесть всю пьесу О.Уайльда в переводе Екатерины Алексеевны Бальмонт. Он заботился, чтобы произведение вошло в тебя навсегда. Добивался катарсиса, потрясения. Потрясениями мы и те образовывались, и наполнялись. Меня всегда пронзает его доверие — что мы, не музыканты, можем это все постигнуть. И никому не было скучно — наоборот, наоборот! Приходили именно слушать музыку и познавать, и воспринимать, и обольщаться ею.
Дом Рихтера был переполнен молодежью, я уже называла многих. Замечательные нам довелось слушать ансамбли, когда он с молодыми музыкантами играл Баха, Альбана Берга. Молодые актеры — я, Митя Дорлиак и наши друзья (мы все в одном театре служили) — закатывали спектакли. Что мы только ни играли, что ни читали! Играли, что называется, и физики, и лирики. Помнится, к его приезду из Америки (60-е годы) поставили "Сганарель, или “Мнимый рогоносец" Мольера. Митя Терехов написал декорации, главную роль играл Митя Дорлиак, главную женскую — я, а лирическую героиню — моя сестра Маша, служанку — Галя Писаренко. Все это шло под какую-то музыку, которую на фортепиано "изображала" Элочка Селькина, ученица Генриха Густавовича Нейгауза. И, слава богу, понравилось, и раз сыграли, и два, и весь "цвет" Москвы радостно собирался на эти представления.
Рихтер любил устраивать и немузыкальные собрания, "чтения". Иногда сам читал — Чехова, например; он обожал Чехова. Но в основном читал папа, притом не готовые свои вещи, вроде "Дамы с собачкой", а и такие, как "Архиерей", "Поцелуй", "Страх", "Огни", "Холодная кровь".
"Живьем" сам Рихтер играл дома, когда что-то обыгрывал. Он, как известно, всегда привык обыгрывать свои программы в музыкальных школах: в гнесинской десятилетке, в школе № 3, где была замечательная директриса, с которой он очень дружил. Там есть музей-комната Рихтера, куда он отдал массу своих вещей — и картин, и подарков, и фотографий.
Отдельно хочется сказать о концертах Рихтера и Дорлиак. Я еще девочкой услышала в их исполнении все романсы Глинки, Рахманинова, французские песни и романсы Прокофьева на стихи Ахматовой, "Любовь поэта" Шумана, циклы Шуберта и Бетховена. Нина Львовна завораживала меня своим обликом, прелестным, тонким, своей чудной сценической манерой. Их двойные концерты незабываемы. У них были такие красивые отношения на сцене, и это тоже пленяло, восхищало.
Мне еще повезло: я с Рихтером и по всей России, и за границу поездила. Я видела, как он работает — как зверь. И когда иногда я слышу про него, что он "капризный”, это совершенно не так. Он абсолютно не капризный, а просто требовательный к другим, а еще более - к себе. Особенно - к себе. Хотя бы эти знаменитые его "часы", "долги". Листы такие, где все записано. Вот он считает, что должен играть шесть или восемь часов в день, а играл, предположим, меньше. Значит, завтра должен прибавить. И их, этих "долгов", накапливается невероятно много. "Тутик, знаете, сколько у меня долгу — двести сорок восемь!" Это то, что он не доиграл...
А наши с ним поездки по стране! В Орехово-Зуеве Рихтер должен был играть в клубе, построенном еще Саввой Морозовым для своих рабочих. Туда заранее позвонили из филармонии: "К вам едет Рихтер". Те не поверили: не может быть, небось, обманывают, завлекают, чтобы билеты раскупили. Или поселок под Владимиром (не помню его названия), куда из Владимира даже привезли рояль, своего там не было. Казалось бы — составь программу из известных, популярных вещей, сыграй Чайковского, сыграй Рахманинова. Что вы! Шуман — этюды по каприсам Паганини, Гайдн, Бетховен.
Мы приехали в Набережные Челны (тогда город Брежнев). Рассказывали, что собралось бюро райкома: "Что делать-то? Рихтера кто пойдет слушать? Надо музыкальные школы поднимать"... Тут звонок из концертной кассы, кассирша звонит: "Билеты вам, райкомовским, оставлять или нет? У меня все расхватали". Помнится, там зал амфитеатром, я вышла объявлять, смотрю — не только по стенкам стоят, но и в проходах, в четыре ряда. Я в ужасе: "Им же не выстоять, шуметь будут!". Никто даже не шелохнулся...
У меня такая особенность — я часто плачу от восторга, от потрясения. В Суздале, когда он играл балладу Шопена, я заливалась слезами. Пошли аплодисменты, поклоны. Он: "Тутик, идите объявляйте следующее сочинение". — "Дядя Слава, я не могу, глаза поплыли". Он сердится: "Нельзя же так реветь! Вы же работаете!". Я: "Нельзя так играть!".
В город Уральск (где Чапаев утонул) мы приехали с опозданием на два часа. Я ужасалась: "Сейчас нас убьют, растерзают!". Подъезжаем к филармонии — толпа. Ждут. Увидели нас, восторг полный. Помню этот простой зал, крашеный дощатый пол сцены. Публика сидит и на сцене, и в проходах, и на подоконниках. Еще светло, летние северные сумерки. Сначала ламп не зажигали. Рихтер играл в полумраке, вернее, в полусвете свою сложнейшую программу. И у меня опять текли слезы...
Перед этими концертами Рихтер так волновался! Кажется, ну подумаешь! Ну кто там что скажет? Но эта его высочайшая к себе требовательность! Однажды, у себя дома он учил этюды трансцендентного исполнения Листа. Мы с Наташей Гутман были неподалеку, разбирали бумаги. Пришло время обыгрывать. Просим: "Ну, сыграйте нам, ну, пожалуйста!". Он: "Ой, как страшно, я очень волнуюсь!". — "Дядя Слава, перед кем вы волнуетесь?" — "Как перед кем? Перед Листом!!!"
Во время его зарубежных поездок я была с ним на одном потрясающем концерте в Туре, во Франции. В этом, теперь уже ставшем знаменитым, "амбаре" он играл Баха. Рядом там располагается военный аэродром — в дни концертов все полеты отменялись. Однажды он плохо себя чувствовал, концерт перенесли или был внеочередной, и полеты не отменили. Он играл Баха, "Итальянский концерт". И именно в той части, где у фортепиано пианиссимо, начали гудеть самолеты. Он и бровью не повел. Он так сыграл пианиссимо, что все забыли про шум, осталось только чудо. Когда все кончилось, французы (а они, как известно, довольно холодноваты и надменны) вскочили с мест. Музыка и душа человеческая победили проклятую технику!
А теперь я хочу рассказать про концерт памяти папы. Рихтер играл в Музее изобразительных искусств 8 декабря 1991 года. Музейные работники — страшно трогательно — почти все билеты отдали нам, чтобы мы могли позвать папиных друзей и почитателей. Тех, кто раньше и мечтать не мог попасть "на Рихтера". Рядом со мной сидели, как цыплята, мои студенты-актеры, которых я пригласила на концерт.
В первом отделении Рихтер играл сонату Гайдна. Одна из частей сонаты рисовала прямо папин характер. Когда Святослав Теофилович заиграл ее, вдруг возник папка, с его огромными сверкающими глазами, и, казалось, он что-то радостно говорил, заглядывая по своему обыкновению в лицо собеседнику. По залу даже пошел какой-то ток, все встрепенулись, все его узнали. А когда Рихтер заиграл сонату Бетховена, хлынули слезы. Но не было безысходной скорби, от которой кричишь, а легче не становится, а была в этой музыке только высота, полет к свету...
Коммерсантъ-Daily 01 июня 1996 г.
Святослав Рихтер: второе открытие Америки
Рихтер знаменит везде, но везде по-разному. В последние полтора года американские меломаны открывают для себя его творчество, можно сказать, заново: крупные фирмы звукозаписи выпустили в свет собрания архивных записей, которые смогут внести коррективы в представления американцев об искусстве великого пианиста. Между тем до сих пор его отношения с музыкальной Америкой были не совсем просты.
В 1960 году Святослав Рихтер впервые сыграл цикл концертов в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке. И хотя слухи о невероятном таланте советского пианиста и предшествовали его приезду, такого шквала восторженных страстей не мог предположить никто. В памяти большинства слушателей остался именно первый визит, хотя позже Рихтер возвращался в Америку в 1965 году и в начале 70-х. Вслед за тем, однако, наступило затишье. Конечно, были записи. Но сам пианист никогда не интересовался их коммерческим успехом. В США никто не обладал на них исключительными правами, никто не занимался и активной рекламой разрозненных дисков, записанных крупными фирмами -- такими как Deutsche Grammophon, RCA, Philips и Angel/EMI.
Как известно, записывать Рихтера всегда было непросто. И дело было даже не в советских бюрократах, а в чрезвычайной требовательности самого музыканта: его пожелания "ограничиться" девятью репетициями перед выступлением с оркестром, как и его просьбы повторить все сначала уже после того, как звукооператоры получили идеальные, на их взгляд, варианты всех частей -- все это вошло в фольклор мира грамзаписи и уменьшило энтузиазм компаний. Студийные записи быстро сошли на нет. И хотя Рихтер оставался одним из наиболее активных и плодотворных исполнителей, отдельные диски, быстро исчезавшие из продажи, не могли дать полного представления о его репертуаре. К примеру, по каталогам больших фирм невозможно догадаться о том, что Рихтер играл шесть поздних сонат Бетховена, Вторую, Седьмую и Девятую Скрябина, четыре концерта и более десяти сонат Моцарта.
Граждане США не имели возможности компенсировать упущенное концертами. Слетать на ежегодный музыкальный праздник в Турень или на фестиваль Бриттена в Олдборо мог не всякий, а концертов в Америке больше не было: официально Святослав Теофилович не любил перелетов, а на самом деле просто не очень полюбил Америку. Вслед за ним и фирмы грамзаписи про нее стали забывать: целый ряд пластинок выпускался только в Европе или в Японии. В итоге для рядового американского любителя музыки Рихтер остался в памяти как пианист, знаменитый в 60-е годы, а потом -- неизвестно, игравший ли вообще.
Помощь покинутым американцам пришла с неожиданной стороны. Ряд мелких фирм начал выпускать раздобытые правдами и неправдами записи рихтеровских европейских концертов. Пиратские и полупиратские записи выходили на виниловых дисках, но появление CD облегчило труд предприимчивых поклонников искусства Рихтера. К началу 90-х годов изрядная часть репертуара "украинского исполнителя" -- как стали выражаться продюсеры, которые могли проведать что-нибудь о пианисте, только проверив его место рождения по карте СНГ -- была представлена на дисках итальянских бутлеггеров. Как правило, не было указано место записи, не было вкладыша с биографическими сведениями (не считая поминаемого всуе города Житомира), а главное -- казалось, что записи сделаны магнитофоном, спрятанным в кармане слушателя, сидящего в 15-м ряду и окруженного туберкулезными больными. О разрешении пианиста не могло быть и речи -- более того, Рихтер написал в итальянский журнал La Musica протестующее письмо. Любители музыки пожали плечами и решили, что их право хоть как-то знакомиться с творчеством пианиста важнее, чем его собственное право выбирать, какие записи этого достойны.
Но то ли время само все расставляет по местам, то ли продюсеры крупных фирм заметили, что вот уже 30 с лишним лет как расхватывают любые диски Рихтера, невзирая на качество записи, но эта хаотическая догуттенберговская эпоха кончилась. За последние полтора года сначала Philips собрал все доступные записи европейских концертов и кое-как их запихнул на 22 диска, потом London/Decca выпустила шесть томов, Praga/Chant du Monde понемногу опубликовала архивы Пражского радио, и, наконец, BMG выпустила десять дисков из архивов "Мелодии". Реклама по-прежнему минимальная, но теперь проигнорировать феномен Рихтера не могут даже критики из больших газет.
Спектр критических оценок и сегодня довольно широк -- от ворчливого признания, что Рихтер вышел за ограниченные рамки советского музыкального мира, до искренних открытий -- вроде того, что другого такого пианиста земля не носила со дня смерти Ференца Листа. Правда, панегирики знаменитостям не очень приняты, и каждый находит к чему придраться. Майклу Уолшу из Time Magazine не по вкусу исполнение как раз сонаты Листа -- запись, которая, между нами говоря, отправляет варианты, записанные многими современными виртуозами, если не на свалку, то в некое бескалорийное и безопасное для здоровья хранилище. А Бернард Холланд из New York Times укоряет Рихтера за раннюю запись, где он неправильно понимал бетховенскую нотацию и трактовал форшлаг как короткую ноту вместо задержания. Помимо придирок к давно исправленным ошибкам остаются вкусы, о которых не спорят даже в применении к великим. Едва ли найдется меломан, для которого любое рихтеровское исполнение отменит нужду во всех прочих. Один предпочтет сонаты Шуберта (особенно Д.960 и Д.850) в исполнении Артура Шнабеля, другому ближе к сердцу окажется мелодраматизм Горовица в интерпретации Скрябина. И конечно, армии неофитов проигнорируют все переиздания, поскольку их не украшает клеймо цифровой записи.
Но интересно другое: те, кто помнит американские гастроли 1960 года, едва ли заменит их в своей памяти чем-либо иным. Но благодаря лавине новых дисков теперь можно сравнить, как играл Рихтер одни и те же вещи в Карнеги-Холле и где-нибудь по ту сторону океана, где чувствовал себя более комфортабельно. И тут-то выяснится, что сонаты Бетховена, Прокофьева и Скрябина, потрясшие Нью-Йорк в октябре 1960 года, были лишь искаженной тенью того, что в те же самые годы приводилось слушать по какому-нибудь обычному абонементу посетителям Большого зала консерватории.
ВИКТОР ХАТУЦКИЙ
Коммерсантъ-Daily 01 июня 1996 г.
Юрген Майер-Йостен
"Музыкальная жизнь", №3-4, 1996
Всё приходит в последний момент
На протяжении всех десятилетий своей долгой и драматичной концертной карьеры Святослав Рихтер очень редко общался с журналистами, неохотно давал интервью. Особенно журналистам советским. Можно лишь гадать о причинах такой идеосинкразии к прессе у человека, известного своей общительностью и доброжелательностью. Возможно, его всегда удерживало оправданное опасение, что любое такое интервью почти неизбежно соскальзывало с чисто музыкантской колеи в область околополитическую, которой великий артист был неизменно и подчеркнуто чужд. Ток или иначе, но лишь несколько лет назад в прессе появились развернутые беседы с ним, которые вела во время поездки Рихтера по России журналистка В.Чемберджи (впоследствии они оформились в отдельную книжку).
Почитателям артиста на его «исторической родине» - в немецкоговорящих странах - повезло несколько больше. Надо заметить, что количество его почитателей и масштабы «культа Рихтера» в Германии, Австрии (как и в ряде других европейских стран) ничуть не меньше, чем в СССР, а теперь в России. Десятки преданных фанатиков его искусства не только собирают диски с записями пианиста, прислушиваются к каждому сказанному им слову, но даже путешествуют за ним по маршрутам его гастрольных турне.
Есть немало городов и городков, где существуют своеобразные сообщества, кружки почитателей Рихтера. Один из таких центров - маленький Вельс на Западе Австрии, где мне как-то довелось провести вечер среди местных любителей музыки, собравшихся на концерт Олега Майзенберга. Фойе местного театра - он же концертный зал - украшено портретами всех блистательных представителей русской пианистической школы, регулярно выступающих в Вельсе. Ну, а имя Святослава Рихтера вызывает у местных меломанов поистине священный трепет и влечет за собой множество рассказов о встречах с артистом, который многократно бывал тут. Так что не случайно именно там, в Вельсе, я получил в подарок от одного из руководителей местного музыкального общества Ф.Маршаллинга небольшую брошюру из серии «Музыканты в беседах», с портретом нашего артиста на обложке. Серия эта было выпущена еще в начале 80-х годов пианистом, музыковедом и музыкальным деятелем Юргеном Майер-Йостеном в издательстве «Анри Литольф». Брошюра, посвященная С.Рихтеру, содержит интереснейшие мысли музыканта о его репертуаре, о подходе к концертной деятельности. Думается, что и нашим читателям будет интересно познакомиться с некоторыми высказываниями Рихтера (в переводе с немецкого). Лев Гинзбург.
Как концертмейстер хора Одесской оперы я постоянно пытался играть так, словно я играю в концерте. Поэтому меня очень там любили и все со мной охотно работали. Опера в Одессе имела тогда примерно такое же значение, как сегодня в Мюнхене, и располагала большим репертуаром. Там были очень интересные постановки, например, «Турандот» Пуччини, «Джонни наигрывает» Кшенека или многие советские оперы и, конечно, Верди, Чайковский и Вагнер.
Фортепианную литературу я в то время не мог недооценивать, хотя бы потому, что до той поры я ее еще и не играл. Я начал вообще только в восемнадцать лет ее изучать; в девятнадцать почувствовал в себе уверенность, достаточную, чтобы дать концерт- программу из произведений Шопена. Но я не обладал еще никакой фортепианной техникой, поскольку всегда играл как целый оркестр. Для вагнеровских опер это очень хорошо подходило, но jeu perle и прочее у меня еще отсутствовало. Поэтому первый концерт был для меня очень большим событием. Я был очень взволнован: в девятнадцать лет от оперной к фортепианной музыке! Это было уже само по себе довольно смело. При этом некоторые вещи я уже играл довольно часто и удачно. Эти пьесы я поставил в конец программы концерта, и таким образом заключение этого вечера прошло очень хорошо, особенно Четвертая баллада. Перед этим Полонез-фантазия был сыгран плохо, как и Прелюды, Скерцо E-Dur - с фальшивыми нотами как результат нервозности. Но потом шла Четвертая баллада, и она была действительно хороша. Как и четвертый Этюд cis-moll (опус 10) - он удался блестяще. Я его много штудировал и мог играть в бешеном темпе. Его так и надо играть, потому что он помечен темпом Presto. Балладу f-moll Шопена я играл также на приемных экзаменах в консерватории, и меня сразу же приняли. Эта пьеса действительно грандиозна! Коду я играл в оригинале, поскольку она в действительности не так уж трудна. Против отдельных перестановок, при условии, что все ноты остаются и их можно слышать - я не имею ничего. Например, в октавных местах Юморески Шумана.
Однако начало бетховенской сонаты Hammerklavier я, разумеется, играю в оригинале, и левая рука тут требует куда большей силы, чем правая. Я был еще студентом, когда впервые в мире сыграл Шестую сонату Прокофьева в открытом концерте, и это был недюжинный поступок Нейгауза, разрешившего мне играть ее.
Многие музыканты тогда говорили, что Нейгауз просто сошел с ума. Ведь свою Шестую сонату Прокофьев сам сыграл сначала по радио, это и была настоящая мировая премьера. Но потом он счел ее чересчур сложной для себя и тут Нейгауз сказал ему: «Тогда ее сыграет молодой Рихтер!»
Я познакомился с Прокофьевым только на этом концерте, когда он после моей игры поднялся на сцену и пожал мне руку. Перед этим Нейгауз успокаивал Прокофьева, и тот ему поверил. У меня - такова уж фатальность моей судьбы - опять-таки не было времени, чтобы спокойно выучить сонату Прокофьева, потому что перед этим мне предстояло еще сыграть одну из сонат Моцарта на студенческом вечере. Только за день до концерта я смог, наконец, выучить прокофьевскую сонату наизусть - после того, как два дня занимался по двенадцать часов. Я знал, что это, в сущности, катастрофа, но так со мной происходит всегда. Эту сонату, вероятно, не так уж легко выучить наизусть, но ее удобно играть, если, скажем, сравнить с Восьмой сонатой, моей самой любимой. Впрочем, и Седьмую, и Четвертую я очень люблю. Третья - которую я не играю - в своем роде стоит особняком, а посвященная мне Девятая несколько «домашняя» - Sonata domestica.
Мое первое и поныне единственное выступление как дирижера было своего рода аферой: лишь десять дней я готовился к концерту с Кириллом Кондрашиным, и это - все. В ту пору еще не очень доброжелательно относились к новой музыке и даже Второй виолончельный концерт Прокофьева поначалу отклонили. Но мне он понравился; он его еще вместе с Ростроповичем несколько переработал. Теперь уже не помню, от кого исходила тогда эта идея, что мне нужно дирижировать, от Нейгауза или Ростроповича. Во всяком случае, звучало это так: «Мы хотим это попробовать, ты должен продирижировать. И я сказал: «Ладно, посмотрим».
Как раз тогда, в 1952 году, я сломал себе палец на правой руке, и притом в драке, к которой я вообще-то не имел никакого отношения. Мы сидели с двумя друзьями в каком-то буфете под Москвой, когда там появился совершенно пьяный человек, который вел себя чудовищно. Два солдата хотели его связать, но он, парень лет эдак 25-ти, оказался очень сильным и свалил солдат на пол. Мне удалось его в конце концов схватить и убедить успокоиться. На следующий день один из моих пальцев так распух, что пришлось пойти к врачу. Он принял это за нарыв. Но к ночи палец так разболелся, что наутро я отправился к другому врачу, на сей раз хирургу. Он сделал рентгеновский снимок, и нашел, что маленький кусочек кости откололся и необходимо срочно что-то предпринять. С помощью теплого воска он выправил мне палец и тот, слава Богу, не остался неподвижным - а именно это мне угрожало.
Естественно, в тот момент я стал задумываться о том, что буду делать, если не смогу больше играть правой рукой. В качестве первого шага выучил Концерт для левой руки Равеля. Однажды вечером, перед сном, мне пришла в голову мысль: все знают, что у меня не работает палец, и теперь я использую это, чтобы дирижировать. Так оно и получилось. Я провел десять дней с Кондрашиным, который учил меня давать ауфтакт и так далее, то есть учил дирижировать. Палец тем временем уже зажил, но в этом я, конечно, не признавался. Потом у меня было всего три репетиции с оркестром. Это было очень легкомысленно, но все прошло хорошо. После концерта я получил письма, где говорилось, что теперь я не должен останавливаться на этом, обязан продолжать дирижировать. Но я это все же оставил. Сказал себе: «Позже, позже я это сделаю». Но вот теперь прошли уже многие годы, а я все еще говорю «позже». Мне просто надо слишком много сделать как пианисту.
И еще кое-что другое произошло тогда же, в вечер после моего дирижерского выступления. В ту пору я уже частенько жил у Нейгауза и вел себя, по правде говоря, несколько бесцеремонно. Сразу же после возвращения домой я сел за рояль и сыграл Этюд а-moll опус 10 № 2 Шопена. Он, кстати, никогда не получался у меня особенно здорово, но той ночью вышел прекрасно! Я был в таком приподнятом настроении, из-за того, что с дирижированием все прошло так хорошо. Нейгауз, услышав это, появился из другой комнаты и сказал: «Слава, это было немножко чересчур быстро!» Потом а-moll-ный Этюд еще пару раз у меня получался здорово, но только на «бис». То же самое у меня и с gis-moll'ным Этюдом.
Я нахожу, что не обязательно нужно играть все этюды Шопена. Я вообще против этой практики исполнения всего целиком – «всех сонат», «всех этюдов» и так далее. Исключение для меня составляет «Хорошо темперированный клавир». Еще студентом я прошел с Нейгаузом примерно пять прелюдий и фуг оттуда. Позднее уже самостоятельно штудировал все сочинение. В этом случае я действительно придерживаюсь мнения, что каждый пианист обязан играть полностью весь «Хорошо темперированный клавир», и притом наизусть. Сам же я теперь в концертах обязательно ставлю на пюпитр ноты. Не из-за проблем с памятью, а потому что один добрый друг как-то сказал мне нечто такое, что произвело на меня большое впечатление. Его мысль сводилась к следующему: «Ладно, вы играете «Хорошо темперированный клавир» наизусть. Но подумайте - не кажется ли это вам несколько непочтительным по отношению к Баху?» Об этом я серьезно задумался и нашел, что это действительно неуважительно. Поэтому теперь я играю это сочинение по нотам.
Сначала я сыграл вторую часть «Хорошо темперированного клавира» еще в 1944 году, перед студентами в Тбилиси, во время моих гастролей по Кавказу. Потом, в 1945 или 1946, исполнил уже в Москве «Хорошо темперированный клавир» целиком, и притом на протяжении шести вечеров. Программы их строились всегда так: сначала шли восемь прелюдий и фуг, а затем какое-либо большое произведение другого композитора, скажем «Аппассионата» или что-нибудь подобное. Спустя некоторое время я опять оставил «Хорошо темперированный клавир» в покое и вернулся к нему позднее, сыграв заново. Сама идея играть Баха только на чембало не находит у меня сочувствия. Можно спокойно играть его и на чембало, но тогда уж не весь вечер, но вперемежку с фортепиано. Целый вечер на клавесине - это звучит так бедно! Из баховских же концертов я играю, между прочим, d-moll'ный и А-Dur'ный, а также С-Dur'ный концерт для двух фортепиано. Я не настолько альтруистичен, чтобы играть только для слушателей, нет, я играю прежде всего для самого себя! Если получается хорошо, то и слушателю, вероятно, от этого кое-что перепадает. Один знакомый музыковед однажды спросил меня: «Почему вокруг вас вырастают какие-то невидимые стены, когда вы играете?» Мой ответ гласил: «Потому что меня самого это не касается, я этого даже не замечаю». Гораздо важнее, однако, удовлетворена ли мною публика!
Я играю Первый и Второй концерты Рахманинова, Третий охотно слушаю, но не играю. Почему? Потому что мне очень нравится, как его играют другие. Если бы другие интерпретации мне не понравились, он уже давно был бы в моем репертуаре. То же самое относится и к Рапсодии на тему Паганини Рахманинова, которую другие тоже играют вполне убедительно. Существует, например, фантастическая пластинка Гари Графмена. Вообще, почти все пианисты, играющие Третий концерт Рахманинова, делают это хорошо. Клиберн хорошо играет; однажды слышал, как его очень красиво играл Флиер, а также молодой Могилевский. Это очень красивое сочинение с большим шармом, типичным для Рахманинова.
Что касается предписываемых повторений в классических произведениях, то тут я придерживаюсь такого мнения: тому, кто не играет повторы в последней части «Аппассионаты», вообще должно быть запрещено играть эту сонату. Того, кто пропускает повторы, нужно освистывать. К сожалению, однако, никто не свистит! То же самое относится и к первой части В-Dur'ной Сонаты Шуберта, хотя почти каждый опускает здесь повторения. Я их играл всегда. Но после концерта обязательно приходят в артистическую музыканты и хотят знать: «Почему вы это играете со всеми повторениями?» Однако, когда я спрашиваю людей из публики, которые тоже приходят за кулисы, не было ли это слишком длинно, они всегда отвечают: «Нет, ради Бога, конечно нет!» Публика чаще всего вообще ничего не знает о повторениях, но она инстинктивно ощущает полноценное повторение как правомерное, органичное. А для музыкантов, для пианистов это всегда слишком затянуто.
Я нахожу это просто гнусным и глупым. Вот подтверждение того, что эти пианисты по-настоящему не понимают музыки. Они боятся, что это будет скучно, потому что не способны поддерживать напряжение и не уверены в самих себе. Сказанное в той же степени относится к сонатам Шопена, которые я по этой причине вообще больше не могу слушать. Не так давно я разговаривал с одной молодой пианисткой, кстати, весьма неплохим музыкантом. Она пожаловалась, как трудно ей всегда дается начало h-moll'ной Сонаты Шопена. Я заметил: «Ну, возможно, это поначалу, но во второй-то раз, при повторении экспозиции первой части, это должно быть уже легче». Она ответила: «Но повторение я не играю, никто вообще этого не делает». На это я спросил: «И вам не стыдно»? Действительно, она вскоре ощутила стыд, так как с тех пор стала играть Сонату с повторами и позже рассказала мне, что у нее все стало получаться очень хорошо. А ведь в действительности так куда легче: если в первом проведении возможна излишняя напряженность, нервозность, то второй раз обязательно получится лучше. Получится крещендо, потому что ты себя чувствуешь свободнее. В моей практике не было случая, чтобы в первый раз получилось хорошо, а при повторении - хуже.
Повторения являются обязательными для каждого музыканта. Сказанное мною о сонатах относится и к симфониям, например, к бетховенской Пятой. В последней части необходимо повторить С-Dur'ный эпизод. Никогда не принимается всерьез, когда я говорю, что чувствую себя просто обокраденным, если выпадают повторения. Я же пришел, чтобы послушать все произведение, а меня лишают его части! Ну, а купюры в операх - даже в таких, которые, вообще-то, вовсе не сложны для восприятия, как, например, «Травиата»! Эта опера превратилась в своего рода попурри, от «Травиаты» там не много осталось. С «Риголетто» происходит нечто подобное, хотя и не в таких масштабах. Самое плохое в этих купюрах, что именно они делают произведение скучным, ибо оно становится статичным.
Еще один образец глупости и невежества людей представляют собой многие новые оперные театры и концертные залы. Фестивальный дом в Байрейте идеален в акустическом отношении: певцам не приходится здесь напрягаться больше, чем необходимо. Но новые театральные здания строят так, словно этого идеального образца не существует; его ни разу не повторили. Ну почему все остальные залы не построили так же?
Своим исполнением Экспромта As-Dur, опус 90, № 4 на шубертовской пластинке 1971 года я удовлетворен в полной мере. Сонату с-moll я записал на пластинку лишь позднее. Я нахожу, что запись Сонаты B-dur в целом удалась мне лучше. Скерцо и Финал просто хороши, да и первая часть вышла неплохо. Она сохраняет, как мне кажется, напряжение, вопреки огромным паузам, но они необходимы. Когда я играл эту Сонату мои коллеги часто спрашивали меня: «Слава, скажите, почему вы взяли такой медленный темп»? А ведь я при этом играю даже не molto moderato, но, в сущности, только moderatо. Другие же играют непременно Allegro moderato или просто Allegro. Первым из сочинений Шуберта, которое я сыграл еще студентом была фантазия «Скиталец». За ней последовала. Соната D-Dur опус 53. Как-то я услышал ее в исполнении одной студентки - страшно долгом и настолько скучном, что просто невозможно было выдержать. Тогда я сказал себе: «Просто не может быть, чтобы Шуберт был настолько скучен». И я решил сам сыграть эту сонату. Случилось так, как со мной бывало обычно. Меня спросили как-то: «Когда у вас следующий концерт?» - «Через двадцать дней» - непроизвольно ответил я и продолжал на вопрос о программе: «Ну, среди прочего Шуберт, Соната D-Dur». После этого я начал ее учить, и в концерте она получилась фантастически...
Впоследствии я занялся G-Dur'ной Сонатой-Фантазией и ее я люблю больше всех, даже больше чем D- Dur 'ную. Затем пришла очередь большой а-moll'ной Сонаты, малой а-moll’ной, маленькой А-Dur'ной Сонаты (большую А-Dur'ную я играть не буду). Дальше шли с-moll'ная, неоконченная С-Dur'ная, H-dur'нaя, е-moll’ная Сонаты, большая Соната B-dur. Кажется, всего у меня в репертуаре десять шубертовских сонат. Насколько мне известно, именно я ввел их в концертную практику в России - до того их у нас не играли. И они сразу нашли большой отклик у публики.
Дебютируя в 1961 году в Париже, я сыграл сначала смешанную программу: Брамс, Скрябин, Дебюсси, а во втором концерте - Шуберта, неоконченную Сонату C-Dur, маленькое Allegretto c-moll и во втором отделении Сонату B-Dur. И парижане сразу все поняли. Вообще публика в Париже реагирует как термометр, к тому же она состоит в первую очередь не из музыкантов. Я не очень-то люблю музыкантскую публику. В Германии, например, публика в музыкальном отношении несколько чересчур образована, и поэтому легко теряется спонтанность восприятия. Концерт в этом случае уже не является приключением, а скорее почти учебным мероприятием...
Многие пианисты отказываются исполнять неизвестные вещи. Но я не могу все время играть одни и те же сочинения, которые всем знакомы. По этой причине, скажем, «Аппассионату» я вообще не хотел бы больше слышать, не играю ее уже много лет. В 1960 году сыграл ее в последний раз в Нью-Йорке, к тому же очень плохо. Я был тогда по-настоящему болен. Все складывалось для меня ужасно во время тех первых гастролей в США. Эта самая другая половина земного шара показалась мне поначалу и психологически и географически ужасной. Перед вторым клавирабендом - с Сонатой Гайдна и сочинениями Прокофьева - какой-то врач дал мне лекарство - своего рода успокоительное, «средство для улыбки». Когда я уже находился на эстраде и играл, все происходящее стало казаться мне комичным. К сожалению, именно этот концерт был записан и потом с этой записи сделали пластинки. Позднее, еще в Америке, я записал «Аппассионату»' в студии специально для пластинки, но и эта запись не особенно хороша. Полагаю, что запись сонаты с концерта в Москве гораздо лучше.
Что касается фантазии «Скиталец» Шуберта, которую я уже играл, будучи студентом у Нейгауза, то тут мне лишь гораздо позже удалось достичь настоящей свободы. Ее нельзя играть академично: как мало какое другое сочинение она требует риска. Шуберт оказал большое влияние не только на Листа, но и воздействовал, по моему мнению, прежде всего своими песнями, на Вагнера, особенно на «Валькирию», а также и на «Тангейзера».
Из всех сонат Вебера я играю только одну, что в d-moll’e. Мне всегда хотелось сыграть и первую (C-Dur), но я до сих пор к ней еще не приступил. As-Dur'ная Соната мне нравится меньше, как и е-moll'ная: в последней первая тема кажется мне очень плаксивой. Разумеется, сонаты Вебера нужно было играть. Увы, их можно услышать очень редко. У нас в России некоторые пианисты играют их действительно хорошо, прежде всего Сонаты C-Dur и e-moll.
Уже много лет назад я прекратил занятия живописью. Я заметил, что все время повторяюсь. То, что удавалось мне легко, было неплохо, но вперед я не продвигался. Это мне в конце концов наскучило. Если заниматься чем-то всерьез, то нужно идти вперед, но для этого у меня не хватало времени.
Однажды на Рождество мы пригласили к себе друзей с детьми и познакомили их с записью оперы «Гензель и Гретель» Хумпердинка. Одна из приятельниц пересказала сначала содержание каждой картины по-русски, немного в народном духе. Затем появились заготовленные мною заранее листки бумаги, на которых печатными буквами было написано, что в тот или иной момент происходит, кто с кем говорит и так далее. Много, много листочков - наподобие плакатов. С их помощью у друзей создавалось впечатление, что они видят оперу. Таким же образом мы познакомили гостей с «Лоэнгрином» и «Саломеей». А в сцене из оперы «Гензель и Гретель», где дети засыпают и появляются ангелы, мы выключали электричество и зажигали свечи на Рождественской елке. В эти дни мы также обязательно слушаем пластинку с записью Рождественской оратории Баха.
Про меня рассказывают, что якобы я однажды остался недоволен своей игрой и поэтому только для себя тут же сыграл всю программу еще раз. Это вздор! Правда же состоит в том, что я действительно после концертов часто остаюсь в зале, чтобы позаниматься - но только потому, что должен проиграть другую программу для следующего своего концерта. Вот вам еще одна легенда. Ну почему, в самом деле, я должен был бы еще раз повторять программу, которую только что сыграл?
Камерный концерт Альбана Берга я играю охотно - он очень интересен. Это не значит, что он мне особенно близок, он кажется мне даже старомодным, но это хорошее, рафинированное сочинение, иногда может быть немного слишком «ученое». Не нравится мне, когда музыка превращается в науку, то есть когда искусство становится наукой. К сожалению, именно так происходит с Пьером Булезом и всей новой музыкой. У них музыка приближается к науке и это мне не нравится. Мне хочется получать удовольствие с помощью музыки, а Булез как раз против удовольствия в музыке. Я не против Новой венской школы и ее последователей, наоборот, я за существование разных художественных направлений, если в них проявляет себя талант или гений. Но я решительно против догм, которые утверждают, что должно быть так и никак иначе. В искусстве я за радость, за удовольствие.
Ничего не имею против таких композиторов как Сен-Санс, чей Пятый концерт я и сам играл. Всегда хотел также сыграть Второй, g-moll'ный концерт, но до этого пока руки не дошли. Концерт d-moll Брамса я не играю, но не потому, что он мне не нравится. Первую и вторую часть и очень люблю, третью меньше. Но нельзя же играть все!
Из Шопена я тоже играю лишь Второй концерт, из Бетховена - Первый и Третий, Рондо B-dur и Хоровую фантазию. Я также очень часто играл Пятую сонату Скрябина, и в конце концов добился кое-чего из того, что хотел: легкости и быстроты. Всего же я играю пять сонат Скрябина: Вторую (Соната-фантазия), и, помимо Пятой, еще Шестую, Седьмую и Девятую.
Из сочинений Листа в моем репертуаре выделяются оба фортепианных концерта. Но его «Пляску смерти» я не буду играть ни при каких обстоятельствах, мне эта вещь не нравится. Мне претит этот «байронизм»! Не нравится мне и Соната «Данте», а «Pensieroso» («Мыслитель») я нахожу совсем кошмарным. Напротив, «Sposalizio» («Обручение») прекрасно, а Сонет Петрарки As-Dur - гениальная и благородная вещь, которую, увы, все играют так банально! Но нечто вроде «Chasse niege» («Метель») я опять-таки терпеть не могу, в нем есть что-то банальное. «Feux Follet» («Блуждающие огни») - хорошая пьеса, хотя в конце становится несколько сомнительной. Но «Liebestraum» и «Вечерние гармонии» фантастичны, а «Дикая охота» хоть немного a la Мейербер, но действительно хороша; впрочем, в этой пьесе есть немного от фантазии «Скиталец». Из Трансцедентных этюдов Листа я играю всего восемь: Прелюдию (это своего рода поднятие занавеса), фантастическую а-moll’ную пьесу, «Пейзаж», «Feux Follet» («Блуждающие огни»), «Eroica», «Дикую охоту», Этюд f-moll и «Harmonies du soir» («Вечерние гармонии»). В таком порядке я играл их в первом отделении одного из клавирабендов. Остальные этюды отсутствуют в моем репертуаре. «Мазепу» я нахожу, например, гораздо лучше в оркестровой версии. Я вообще люблю симфонические поэмы -Листа, особенно первую, очень красивую Горную симфонию («Что слышно на горе»), но также и совершенно гениального «Орфея» и «Гамлета». Вместо этого постоянно играют «Тассо», относительно слабую вещь. Вообще за последнее время я Листа несколько запустил, и хотел бы сейчас чаще к нему возвращаться. Соната h-moll - такое гениальное произведение! Я хотел бы ее снова играть, но также и этюды, или скажем, «Долину Обермана» из «Годов странствий», которую я очень люблю.
В день концерта я предпочитаю три часа позаниматься и затем делать все, что хочу; перед самым концертом, быть может, еще полчаса или даже целый час поиграть. Может быть, самое важное: не есть слишком много! Иногда мне приходилось готовиться мало, и тем не менее концерт проходил хорошо, может быть, как роз тогда, когда я делал такие вещи, которые делать не следует. Тут не существует никаких правил. Лучше всего было бы так разграничить свою концертную жизнь: один месяц только заниматься, затем месяц или полтора почти каждый вечер играть, но только две сольные программы или концерт с оркестром, а потом опять сделать паузу. Но у меня всегда получается так, что во время концертных поездок я вынужден еще учить что-то новое, потому что всегда есть какие-то обязательства. Но, конечно, в этом всегда сам бываешь виноват. Если у меня, к примеру, есть месяц, чтобы что-нибудь подготовить, то поначалу я почти ничего не делаю, и начинаю только в последние недели всерьез браться за дело. И потом оказывается, что срок чересчур короток.
Сам я всегда хочу сделать иначе, но у меня не получается. Так, как это было, когда я в первый раз играл Шестую сонату Прокофьева, так и осталось. Всегда в последний момент! Если у меня нет четкой даты предстоящего концерта, я не могу работать, не могу себя заставить. Но потом, когда деваться некуда, в самый последний момент, времени остается едва-едва, и все приходит само собой в последние дни. И тогда я нахожусь в совершенно особом настроении.
Опубликовано в журнале "Музыкальная жизнь", №3-4, 1996
Вера Васильевна Горностаева
«Музыкальная жизнь» №9, 1997

Вера Васильевна Горностаева
«Музыкальная жизнь» №9, 1997
Само имя его символично
12 апреля. День рождения Нейгауза. Рихтер собирает у себя учеников Генриха Густавовича (естественно, не всех, их было слишком много). Стоят повсюду фотографии Нейгауза. Огромное количество цветов, настроение праздника. Мы слушаем Концерт Шопена в исполнении Нейгауза, Фантазию Шопена — его записи. Ощущение благоговейного, посвященного его памяти вечера, который организован талантливым режиссером, продуман в каждой мелочи.
А как Рихтер играл концерт 10 октября, год спустя после смерти учителя. Была скупая афиша: «10 октября. Святослав Рихтер». Программа — те же сонаты, которые играл Нейгауз. В афише ни одного слова о том, что это концерт его памяти. Портрета Нейгауза на сцене нет. Не обозначено. Но все понимают, все помнят, что это такое, 10 октября. Вышел Рихтер, не во фраке (и это тоже важно). Он вышел не как артист, принимающий аплодисменты и цветы. Он вышел как ученик, играющий в память учителя. Это заметно по мельчайшим деталям, но об этом нигде не заявлено. Рихтер представлял собой некий феномен, близкий в каком-то смысле тому, что было заложено в самой школе Нейгауза. Это очень интересный феномен. Нейгауз, его класс и его школа были взаимопроникновением двух культур, к которым он одинаково принадлежал, — западноевропейской и русской. И в этом смысле Слава был как бы продолжением Нейгауза, и потому оказался столь созвучным ему и был его любимейшим учеником. Оба эти человека были объединены пространством мировой культуры, из которой росли корни и того и другого. Слава родился в Житомире — опять совпадение: Нейгауз тоже родился на Украине, в Елисаветграде. У обоих славянская кровь мешалась с немецкой: у Рихтера — мать русская, отец немец, у Нейгауза — мать полька, отец немец; стало быть, соединение славянского с германским и там и здесь. Представьте себе рихтеровского отца органиста, всю жизнь игравшего на этом инструменте; это от него Рихтер получил прививку европейской традиции.
Нейгауз прожил какую-то часть жизни в Европе, получал образование в Берлине, в Италии, в Вене у Годовского, и все это в юные годы. Затем он вернулся и стал «невыездным» до конца жизни: где-то в середине жизни его один раз выпустили в Варшаву и еще один раз в Прагу, и больше никуда. Рихтер, естественно, потянулся к Нейгаузу, и они моментально попали в единое духовное поле. Совершенно ясно — эти люди были друг другу предназначены. Их отношения — тема отдельной статьи.
А эта тема — тема смешения культур в рихтеровском творчестве — для меня очень важна. Потому что мы, выросшие, скажем, на концертах Софроницкого, Юдиной, столкнулись с чем-то для нас неожиданным. После «Симфонических этюдов» Софроницкого мы впитывали совсем иной воздух в тех же «Симфонических этюдах», которые звучали в концертах Рихтера. Это был совершенно другой Шуман. Вот случай, о котором я сейчас внезапно вспомнила. Как-то Слава позвал нас в гости, меня и Алика Слободяника. И неожиданно предложил послушать пластинку с «Юмореской» Шумана в собственном исполнении (для него очень нетипично!). Сказал: «Знаете, я так давно это записал, я даже забыл, мне интересно, что это за музыка». Ну конечно, он же не преподавал, не общался беспрерывно с фортепианными произведениями. Поставил нам пластинку. Я в его Шумане ощутила влияние немецкой философии. Великий немецкий идеализм, который живет в музыке Шумана, звучал в игре Рихтера. Все лирические образы «Юморески» были прочитаны с такой чистотой, с такой высотой, лишенные чувственности, к которой мы привыкли у Софроницкого. У того всегда земная была музыка — и надломы, и трещины, и чувственное звучание рояля, и глубокий тембр самого фортепианного голоса. А у Славы музыка как бы почти стерильная, парящая, освобожденная от плоти земной. Временами это казалось как-то уж слишком «по-немецки», особенно второй номер. Хотелось бы слышать какое-то рубато, какую-то раскованность. А тут — метрично. И метричность этой темы меня заставила задуматься; но я не фиксировалась на этом специально...
Ну вот прослушали мы «Юмореску». Молчание. Что можно сказать в присутствии Рихтера о только что прослушанной его записи? Мы смущенно молчим. Восхищаться? Пошло... Рихтер не тот человек, в присутствии которого можно восхищаться его игрой. И мы так ничего и не произнесли, но только он вдруг сказал очень сокрушенно: «Все-таки ужасный педант...» Я никогда не забуду, к а к он это сказал: «ужасный педант» — по поводу собственной пластинки. И поняла почему — вот из-за этой метричности. Он ее тоже заметил. Услышал ее и как бы увидел себя в зеркало, и это была самооценка, даже не конкретно какого-то отдельного номера, а, может быть, всего в целом. «И все-таки ужасный педант...» А потом: «Ну, пойдемте пить чай».
Рихтер — он был к себе... ну, не то слово «строг», он был к себе жесток, беспощаден, он сам себе ставил отметки. Он очень редко был доволен собой. Однажды он совершенно гениально играл все те же «Симфонические этюды» в Зале Чайковского. Мы сидели с Рудольфом Керером. Помню его игру до сих пор. Я была потрясена, хотя я много раз слышала это произведение в его исполнении. А во втором отделении шли «Картинки с выставки», я это тоже у него много раз слышала. Достаточно проходной вариант, ну, скажем так, для него неудачный. И вот реакция публики: после первого отделения — вежливые, хорошие аплодисменты, прочные такие, после второго отделения — крик, шум, скандёжка. Мы прибежали к нему в артистическую с Рудиком. Он только что со сцены, взмыленный, не сыграв еще ни одного «биса». Повернулся к нам: «Ну что, ну что... Вот. Вот и играй им после этого. Я же удачно, — сказал он скромно, — сыграл «Симфонические этюды» — и три хлопка. И я неважно сыграл Мусоргского — и посмотрите, что делается». И так это он огорченно сказал, так трогательно...
Он вообще был смиренным человеком, только сейчас осознаю, до какой степени смиренным. Мы сталкиваемся постоянно: пузырится кто-то, ничего собой не представляющий, мелькает на экране телевизора каждый день, саморекламой занимается пошлой, в политику лезет, не брезгует ничем, лишь бы «набить» этот самый зал, услышать эти вожделенные вопли публики.
Мы вот недавно услышали всемирно знаменитого вундеркинда, который приехал и многих огорчил. Огромным количеством шлягеров, «игрой на успех», виртуозной железобетонностью и, к сожалению, утратой той поэтической красоты душевной, которую мы так любили в его юном возрасте. А публика надрывалась. Так что овации зала не всегда соответствуют значимости события.
Рихтер был человеком планетарной славы, бремя славы, которая обрушилась на его плечи, — это все-таки дьявольское искушение; искушение быть настолько знаменитым. «Быть знаменитым некрасиво...» Быть таким знаменитым, каким был он — да, можно было бы впасть в олимпийское спокойствие по отношению к своей игре. Тем более что вокруг — одни фимиамы. Они звучали от многих, за исключением, наверное, Нины Львовны, которая была его самым искренним и верным судьей. Представить себе, сколько лести окружало этого человека, сколько цветов, восторженных рецензий. И как при этом сохранить смирение? Но такова была его натура. Общаясь с ним, я видела прежде всего его ироничное отношение к себе. В нем никогда не было того, что мы называем «самоуспокоенностью», «самоуважением», я уж не говорю о самодовольстве, это вообще не приложимо к таким, как он.
Наверное, это шло от его христианства. Есть черты, которые единодушно отмечают все, кто его близко знал. Они входят в очень, для меня сейчас, когда он умер, стройный и цельный его образ. Ну, например, сторона его характера, о которой все сейчас вспоминают: при нем невозможно было злословить. Вот собрались, начинаются разговоры о том, о сем, обязательно станут кого-то ругать. Не получалось при нем! Он немедленно поворачивал разговор. Едва начнут о каком-нибудь музыканте говорить что-то плохое, он тут же о нем вспомнит что-нибудь хорошее. Становится ясно, что ему это неприятно. А поскольку он был для нас человеком, вокруг которого была особая аура, ты невольно подпадал под этот очень тонкий, незаметный диктат. При нем невозможно было сказать пошлость, вульгарность, рассказать чрезмерно фривольный анекдот. С ним это не совмещалось.
В поздние годы его нелюбовь к ритуальным приходам поздравителей в артистическую. Он убегал после концерта. Он понимал бессмысленность этой традиции: стоишь, к тебе приходят, говорят комплименты, ты в ответ произносишь что-то. Не любил ничего формального. Не любил и никогда не давал интервью. Относился с иронией ко всему, что «около».
Он не любил даром проведенного времени. И я заразилась от него этим пониманием ценности времени. Тому, что время не должно так утекать в песок, как это у нас происходит на каждом шагу.
Он не смотрел телевизор. Однажды мне сказал: «Вера, вы знаете, телевизор нельзя смотреть, это страшно вредно. Там же радиация, облучение». Конечно, дело не в том, что он берег свое здоровье, а просто телевидение было для него примером той самой суетности, которой он всю жизнь сторонился. Телевизор, галдеж за столом, болтовня по телефону — это все было не для него, не про него.
Рихтер был человеком, который не разговаривал по телефону, — об этом знали все, кто был с ним близко знаком. «Можно Святослава Теофиловича?» — «Вы знаете, он не разговаривает по телефону» — «Как?!» — «Ну вообще!» Он говорил по телефону только с одним человеком — с Ниной Львовной. Однажды объяснил (это было, еще когда он жил на старой квартире, в Брюсовом): «Вера, вы знаете, я понял, что телефон — это величайшее зло в человеческой жизни». Я ответила: «Да, да, мы все это понимаем». — «Так вот, я это понял всерьез. Представьте, вы встаете утром со свежими силами и с каким-то ощущением чистоты предстоящего дня. И что происходит? Вам звонят — ну, за два часа вам звонит восемь человек. И вы чувствуете, что за два часа вы израсходованы, истрачены, замызганы... Вы знаете, что я сделал? Я перестал платить за телефон. Чтобы от него избавиться». — «А что было потом?» — «Пришел телефонный мастер и сказал: «Гражданин Рихтер, у вас не уплочено за телефон за три месяца. Вы что, не собираетесь платить? Заплатите, а то мы у вас отключим телефон». Я сказал: «Голубчик, отключите его, пожалуйста. Мне не нужен телефон». Он сказал: «Вы что дурака валяете? Я ведь серьезно отключу телефон». — «Так отключите! Мне в о о б щ е не нужен телефон». И ему отключили телефон. На его половине не было телефона. А когда они переехали на Бронную, ему уже просто не поставили телефона. Телефоном располагала бедная Ниночка, которая отдувалась за всех и вся.
Отчего это все было? Я уже говорила — он не любил ничего суетного. Не любил тратить жизнь на пустяки. Если вы приходили к нему в гости, то попадали в сценарий, им заранее подготовленный. Обычно как это бывает? Застолье, сидим за столом в течение трех часов, потом расходимся, ничего не приобретя. Я помню много приглашений к Рихтеру, и каждая встреча обязательно была с каким-то замыслом. Это всегда было связано с произведениями искусства — музыкой, живописью, театром. Скажем, устраивается выставка картин Пикассо. Там были и вещи, подаренные Пикассо (Святослав Теофилович был с ним знаком). На столе лежала уникальная книга, все ее рассматривали: «Кармен», иллюстрированная Пикассо. Чего только не придумал Слава, чтобы выставка состоялась и была на высоте. Он в то время жил еще на старой квартире, где была очень большая комната, так называемый «зал»; впрочем «зал» был и в новой квартире тоже, Слава обязательно хотел, чтобы в доме был такой «зал». Три комнаты соединили в одну.
Нина Львовна жаловалась, что у них сумасшедший дом. Слава готовит выставку Пикассо. Он всех измучил: выставка Пикассо, уверял он, не может быть в прямоугольном зале, должен быть, например, семиугольник, соответствующий этой живописи. Мастера работали с утра до вечера, выстраивая из фанеры или картона этот семиугольник, как он нарисовал. Потом это все должно было быть обшито серой рогожкой (а при советской власти ее надо было еще достать!). Над каждой картиной он сделал маленькое освещение, как в музее. И я помню, как мы пришли, и как он нас водил, и как он сиял, и как подобрал музыку, подходящую к Пикассо. Это было действо. Вы уходили из его дома с ощущением абсолютной незабываемости этого вечера.
Я часто вспоминаю одно Рождество в доме Рихтера. Впервые я тогда видела елку, которая так была не похожа на елки моего детства. Слава колдовал в «зале», а мы сидели в маленькой комнатке и ждали. Без пяти 12 он нас позвал. Там были канделябры, свечи, которые он зажигал факелом, стояла огромная красавица-елка в потолок, не было игрушек, а только на ней горели восковые свечки и сверху спускались серебряные нити. И она мерцала... А под елкой играла музыкальная шкатулка. Это была какая-то особенная, очень дорогая швейцарская шкатулка, которую он привез, и она совершенно замечательно играла, очень долго. Я не узнала этой музыки, я поняла только, что это старая немецкая музыка, немецкий романтизм. Он меня спросил: «Вы знаете, что это за музыка?». «Нет», — сказала я, покраснев. «Это Хумпердинк, забытый композитор». И еще под елкой лежали подарки для всех. «Сценарий» был Славин — весь. Встал Дмитрий Николаевич Журавлев и прочел «Рождественскую звезду» из «Доктора Живаго», впервые услышанную в этом доме. Читал Журавлев потрясающе. После первой строфы я поняла, что это Пастернак, но Пастернак, которого я не знаю. Я впитывала в себя эти гениальные стихи, которые, конечно, с первой строчки возлюбила на всю жизнь. «И странным виденьем грядущей поры./Вставало вдали все пришедшее после./Все мысли веков, все мечты, все миры./Все будущее галерей и музеев./Все шалости фей, все дела чародеев./Все елки на свете, все сны детворы...»
А потом Слава подошел тихо к роялю. И начал играть фрагменты из «Пестрых листков» Шумана, вторую половину. Все это было в тишине, удивительной, благоговейной, как-будто была такая служба религиозная. Это и была служба, только языком искусства, скажем так.
Режиссура общения. Огромная подготовительная работа — на нее не жалелось ни сил, ни времени. Для чего он все это делал? Что это — детские игры взрослого человека? В этом не было никакой корысти. Это не освещалось в прессе. Ни рекламы, ни денег, ни так называемой «пользы». Это было вроде бы бесполезно для сиюминутных целей. Но в удивительной детской страсти к игре — но не только к игре — было желание приобщить людей к духовности. И это вошло в меня навсегда.
Рихтеровский универсализм. Это шло не от Нейгауза. Нейгауз был чрезвычайно чуток к слову. Он обожал стихи, знал их очень много. Наизусть знал всего Пушкина. Я с ним моментально в этом сошлась, потому что и я с детства была отравлена словом. Мир Рихтера — живопись, театр. Он не обладал той страстью к стихам, какая была у Нейгауза. Мне он говорил: «Какая у вас память! Я всегда завидую, как вы знаете стихи». У него были свои литературные пристрастия. Из них помню, например, Герман Мелвилл — «Моби Дик». Тогда вышел у нас чудно изданный «Моби Дик» с изумительными рисунками Рокуэлла Кента. Слава сказал мне: «Вы обязательно должны это прочесть». И так у него горели глаза при этом, что я, конечно, прочла.
Если я могу сказать, что мой учитель — Нейгауз, то могу и сказать, что второй мой учитель — Рихтер. Конечно, он был примером, эталоном. Я помню, девчонкой я смотрела, как он выходит и кланяется: в одну сторону — оркестру, в другую сторону — оркестру, потом в зал — публике. Я видела и запоминала: ага, вот так...
К нам, щенкам, он относился очень забавно. И очень бережно. Я же с ним познакомилась — страшно сказать — пятьдесят лет назад. Мне было семнадцать, я только поступила в класс. Помнится, мне в то время очень нравилась «Сага о Форсайтах». Я бредила этой «Сагой». Я была дома у Нейгауза, закончился урок и пришел Рихтер. Молодой (ему тридцать три), худой, безумно красивый, чудесно сложенный. Я и раньше встречала его на улице Герцена, идущим по улице, жующим батон: купил в булочной и своими тевтонскими челюстями перемалывает этот батон...
Генрих Густавович представил меня. И я вышла на улицу вместе с ним, с Рихтером! Шла и думала: «О чем же я буду с ним говорить?» Дикаркой была я в 17 лет... Вся зажавшись, я сказала: «Слава, а вам нравится «Сага о Форсайтах»?» Он посмотрел, прекрасно понимая мое состояние детского обожания, сказал: «Ну да, ну да, это, конечно, такая добротная английская литература». Я уловила холодок в отношении к этой книге, насторожилось, собираясь защищать свое любимое произведение. А он ласково: «Вам не кажется, что это временами напоминает хорошо раскрашенную открытку?» Я озадаченно его слушала. «Ну, например, Ирен...» И я вдруг поняла: красивая, но все-таки неживая. Сомс — тот живой, я могла бы отбиться. А с Ирен — это было точное попадание.
Я любила его спрашивать о музыке. У него бывали такие неожиданные замечания. Я однажды его спросила (он играет безумно быстро и с демоническим темпераментом Четвертый этюд Шопена); я говорю: «А что вы себе здесь представляете?» Он вдруг: «Фигурное катание». — «Шопен — и фигурное катание?!» Он засмеялся: «Вот вы знаете, когда они кружатся на носке. Нет, конечно, не эти красивые пируэты и па, не это. Помните круженье в этюде Шопена, такое динамичное, такое острое и бурное. Оно напоминает то, когда они на носке... и даже лед трещит!» Прелюдия и фуга Баха, второй том, ля минор. Он: «Как же, это ясно, что там: это бегство Марии в Египет. Это ползучее, таинственное, по тропинкам бредущее, эти хроматизмы ползучие. И Фуга — как избиение младенцев. Скрещенные мечи». Бегство в Египет! Скрещенные мечи! Точный образ. Этого нет ни у Анри Перро, ни у Швейцера, ни у нашего Яворского. По поводу этого евангельского образа я нигде не прочла — это от Рихтера. Я пользуюсь этим и теперь, когда занимаюсь со своими учениками.
Рихтера отпевали в православной церкви. Многие удивились: «А он что, был православный? Или он...» Я никогда не задавала ему вопросов на эту тему, это было бы бестактно, как-то это не было важно. В отличие от тех, кто размашистым жестом крестится в объективы телевизионных камер, он этого не делал никогда. Он никогда не ходил «крестом наружу», и вообще никто не знал эту сторону его жизни. Но можно было догадаться по многим признакам, что он верующий человек: по тому, что не злословил, по бескорыстию немыслимому, которое его отличало. По тому, что ничего не скопил — в последние годы жил за границей у друзей. И не было у него никакого капитала, у великого пианиста, в отличие от других великих...
Теперь мне вспоминаются разговоры с ним, наталкивающие на ощущение религиозности прожитой им жизни. Не той «религиозности», которая ходит через день в церковь. Религиозности осознания своей миссии, понимания посланного тебе времени, понимания того духовного пространства, в котором ты должен жить, — вот этого и никакого другого! И в это духовное пространство он не впускал ничего, чуждого ему. Никаких чиновников я в его доме не видела, никакой пошлой конъюнктурной суеты. Это был совсем другой мир, его мир.
Миссия художника. Вспоминаю такой разговор. Было это после исключения Александра Солженицына из Союза писателей. Пришел Стасик Нейгауз; через знакомых литераторов он достал стенограмму заседания, на котором исключали Солженицына из Союза в Рязани. Стасик читает, мы негодуем — интеллигенция тогда вся кипела.
Слава сидел в кресле, смотрел на нас, мягко улыбаясь. На лице у него была ласковая ирония. Потом сказал: «Не понимаю, почему вы так возмущаетесь? Союз советских писателей — это же союз очень плохих писателей. А Солженицын — хороший. Почему ему надо быть в этом союзе?» Я возразила: «Слава, но он же человек. И его сейчас травят, ему сейчас плохо». А он: «Человек с таким интеллектом, как у Солженицына, — это человек пророк. Разве вы не понимаете, что пророк знает, на что он идет? Разве не догадываетесь, что он прекрасно знал. что воспоследует? Он знал, что на него обрушится. Но он же счастлив. Я бы хотел с ним обменяться. Иметь его дар сказать все, что он сказал. Он счастлив от одного того, что он выполнил свою миссию!»
Меня пронзили эти слова. Я подумала: «Господи, это совершенно религиозная точка зрения». Я позже задумалась о том, что в нашем негодовании было много от незнания каких-то высших законов. Да Солженицын все это сам после описал в «Бодался теленок с дубом»: как его несла неведомая сила, как его берег кто-то или что-то, сберегало его, чтобы он довел до конца свою миссию. Бог сберег его от рака, сберег от КГБ — его выбросили из страны, но не убили... И Рихтер, ничего этого тогда не знавший, все угадал. Значит, он понимал выше нас.
Будучи совершенно повернутым спиной к политике, будучи всегда вне режима, вне власти, он себя гениально оградил от этого. Ему нелегко было идти этой дорогой. Можете себе представить, сколько раз на него бросался режим. И сколько раз он становился жертвой разных провокаций со стороны режима, который хотел использовать его как свой лейбл, как свой эталон, чтобы показать свои достижения. И он всегда от этого уходил. Он был смиренней и кроток. Он, например, смиренно и кротко отдавал свои «проценты» Госконцерту. Госконцерт получал за него гигантские деньги, а он получал от этого крайне мало, по сравнению с остальными особенно чудовищным был разрыв у него. Но между тем, когда выяснилось, что в Америке тяжело больна раком его мать (Слава сыграл там, кажется, около тридцати концертов), он весь гонорар оставил ей. И приехал пустой. Пришел в Госконцерт и сказал: «Я не привез ничего». «Как? Что?!» Он сказал: «Моя мать умирает от рака, и я оставил все деньги ей». Он не позвонил, не спросил, не согласовал. Там где-то наверху, в КГБ, совещались, выясняли. И сделали вид, что ничего не случилось.
Слава, когда считал нужным что-то делать, он это делал. В нем не было страха перед режимом. Он просто стоял к нему спиной. Рассказывают (это очень на него похоже), что, когда Солженицын жил на даче у Ростроповича (а Рихтер относился к Солженицыну исключительно, он им восхищался, и то, что Александр Исаевич был в церкви на отпевании, меня очень обрадовало), так вот, говорят, что тогдашний министр культуры Фурцева сказала Святославу Теофиловичу: «Послушайте, вы не можете как-нибудь повлиять на Ростроповича? У меня чудовищное положение, меня все время вызывают наверх и говорят: «Что это такое? У твоего Ростроповича живет Солженицын, это надо прекратить, это невозможно!» Рихтер ей сказал: «Екатерина Алексеевна, если Ростропович выгонит Солженицына, я буду вынужден взять его к себе в дом. Не может же он жить на улице. Где же он, по-вашему, должен жить?»
В нем очень силен был голос совести. Когда умерла Мария Вениаминовна Юдина и власти нигде не хотели предоставить помещения для гражданской панихиды, Нина Львовна билась как белка в колесе, обзванивая по верхам всех, кого могла. И вынуждена была в конце концов выйти на Ирину Антоновну Шостакович (не хотели беспокоить Дмитрия Дмитриевича: он был очень болен). Слава возвращался из Японии, как всегда, какими-то кругами: через Казахстан, через Урал, по дороге давая концерты. И чуть ли не в Челябинске он был накануне описываемого события и созванивался с Ниной. Она ему рассказала, что не могут нигде пристроить гроб с телом Марии Вениаминовны. Он сказал: «Господи! Да все залы должны бороться за честь поставить у себя этот гроб». В конце концов при помощи Шостаковича удалось добиться вестибюля Большого зала Консерватории. Музыкальную часть Нина Львовна поручила мне. Я пригласила людей, созвучных духу Юдиной. Единственный человек, которого я не решалась пригласить, был Святослав Теофилович. Он был в Москве всего один день, а потом летел дальше на гастроли, в Европу или Америку. За два месяца отсутствия у него накопилась куча дел...
Когда шла последняя треть музыкальной части (играли Наседкин, Вирсаладзе, Любимов, Стасик Нейгауз, пел «Мадригал», а я открывала это все первой частью «Лунной» сонаты), раздался вдруг шорох в толпе: я увидела высокую фигуру — шел Рихтер. Когда он уже улетел, я задала вопрос Нине Львовне: «Ниночка, а как это вышло, что Слава пришел?» Она ответила: «Он меня спросил вечером: «Ниночка, как вы думаете, наверное, мне надо все-таки сыграть на панихиде Марии Вениаминовны?» Ниночка: «Славочка, как вы решите. У вас завтра очень тяжелый день. Вы можете, конечно, не играть». Он сказал: «Нет, Ниночка, я думаю, что я все-таки должен сыграть... Да, да, я буду играть».
...Пройдя сквозь толпу, он подошел ко мне, улыбаясь — у него были веселые, сияющие глаза (религиозное восприятие смерти?). «Вы тут всем распоряжаетесь? Можно, я пойду после Стасика?» Я спросила: «А что вы будете играть?» «Это секрет. Сейчас услышите». Слава сыграл си-минорную прелюдию Рахманинова.
Рихтер вернулся в Россию 5 июля. Поехал на Николину гору. За три дня до смерти с Димой Сканави обсуждал возможность посетить деревню Дютьково под Звенигородом, где жил на даче до последних своих дней Танеев. Деревня стоит среди подмосковных низких холмов на поляне, а вокруг зубчатый лес. Диме он сказал: «Я бы хотел туда, к Сергею Ивановичу съездить».
Было у него, стало быть, ощущение родного пепелища, святынь, с которым он расстался на время и к которым вернулся. Настолько цельно прожитая жизнь от начала до конца. Такая удивительно тонкая, рафинированная культура, этическая культура сопутствовала ему во всем. Не только мне, всем нам будет его не хватать. С ним ушло то, чего очень трудно достичь, особенно в сегодняшнее время.
Со смертью Рихтера ушло... Юра Башмет точно сказал: «охранная грамота истины в искусстве». Я бы только сказала иначе: «охранная грамота художника». Хотелось и хочется ему во всем подражать. Ему — во всем. Он выполнял поручение, как это звучит в Книге книг: «Талант, гений, дар божий — это есть поручение Бога». И это поручение он выполнил без единой ошибки. Мне не удалось заметить что-то, в чем он хотя бы раз отступил от позиции, выбранной им. Для меня даже имя его символично — Святослав. Теперь понятно, что его назвали правильно.
«Музыкальная жизнь» №9, 1997
Р. Шато. СОВЕРШЕННЫЙ ПИАНИСТ. БЕСЕДА СО СВЯТОСЛАВОМ РИХТЕРОМ.
Итальянский журнал "Musica", 1982 г. Перевод Е. Куловой (Музыкальное исполнительство и современность: Вып. 2. – Научные труды Московской государственной консерватории. – Сб. 19. – М., 1997).
«Действительно, я никогда не даю интервью. Мне было бы трудно это сделать, я бы на это никогда не решился», – я повторял про себя эти слова Святослава Рихтера, в то время как мой поезд мчался к нему всё быстрее и быстрее. Сколько раз мне приходилось переживать волнение перед интервью, прежде всего потому, что те, у кого я их брал, были мне людьми незнакомыми и, соответственно, непредсказуемыми. На этот же раз я волновался именно потому, что знал Рихтера. Его постоянные отказы давать какие-либо интервью, его страх перед любопытством публики были мне хорошо известны. Обычное интервью – серия вопросов и ответов, которые должны были быть напечатаны, – представляло для него непреодолимое препятствие.
Из окна вагона я видел пути, станции, пейзажи, которые стирались и появлялись вновь, когда поезд тормозил. Я думал об изумительном художественном взлёте Рихтера, о его успехах, пластинках, мировой славе, которая сделала из него легенду. Я просматривал свои листы, на которых написал все вопросы, и чем больше я смотрел на них, тем чаще говорил про себя: невозможно. Для того, чтобы утешить себя, я повторял мысленно высказывание Гераклита – далёкое воспоминание ещё лицейских времён: «Кто не ждёт невозможного, тот ничего не добьётся», которое наш профессор по литературе повторял нам, студентам, накануне нашего выпуска. Слабое утешение, но выбор был уже сделан.
Конечный пункт моего путешествия – Флоренция. Странное совпадение: Флоренция была тем городом, который впервые аплодировал Рихтеру – двадцать лет назад, в мае 1962 года. Именно тогда состоялось то «историческое» выступление Рихтера, когда он играл Второй концерт Брамса с оркестром под управлением дирижёра театра «Ла Скала» Челибидаке. Затем было ещё много, много успехов, более того – триумфов, которые снискали Рихтеру славу любимца итальянской публики. Теперь во Флоренции Рихтера ждали два концерта камерной музыки с квартетом Бородина и альтистом Юрием Башметом.
Я продолжал думать о своём почти утопическом проекте. Рихтер никогда никому не давал интервью. Он никогда не хотел публично говорить о себе, о своих программах, о своём прошлом, о своих отношениях с музыкой. Даже в личной беседе трудно было поставить перед ним «специфические» вопросы. С ним нужно было говорить «вдруг» – вдруг о кино (он был поклонником искусства кинематографии), вдруг о живописи, о путешествиях, о чём угодно. И всегда можно было найти в нём внимательного собеседника, готового к открытому диалогу, дававшего иногда очень острые ответы, полные юмора.
Но когда вы касались музыки, всё изменялось, всё очень усложнялось, и я бы сказал, что становилось ужасно трудно. На его лице мгновенно появлялась целая серия выражений, которые давали понять собеседнику, что нужно изменить тему разговора. Однако Рихтер хорошо знает наш журнал. Он был свидетелем его появления и подписался на него в первый же год издания. Один раз он мне написал, подтверждая, что с удовольствием ответит на вопросы нашего журнала «Музыка». Но теперь я очень далёк от уверенности, что он сдержит своё слово. В то время, когда я думаю обо всём этом, мой поезд медленно подходит к вокзалу Санта-Мария-Новелла. Первое, что я замечаю, это длинный хвост такси и большое количество плакатов, написанных чёрной и белой краской. Их вывесила фирма «Ямаха», и они посвящены Рихтеру. Посередине большое фото, которое как бы «усаживает» его за рояль фирмы «Ямаха», и внизу подпись: «Добро пожаловать во Флоренцию!» Мне показалось, что это доброе предзнаменование. Мы очень надеялись на его концерты: Рихтера не было в Италии уже шесть лет.
День невероятно жаркий – середина июня. Кажется, что ужасная жара как бы «сковала» город. Только туристы, живописно одетые, шумные, снуют повсюду, нарушая тишину города. Я встречаюсь с Рихтером почти сразу же в холле его гостиницы, что позади театра «Комунале». Он в хорошем настроении, улыбается. Он, кажется, доволен, что снова приехал в Италию, в «свою» Флоренцию. Я обращаю его внимание на плакат, и он смеётся, говоря, что на этой фотографии он не очень хорошо получился. Подъехала машина. Рихтер показывает мне огромный «Мерседес» с австрийским номером, который он взял напрокат накануне. Пока мы разговариваем, подходит его жена, Нина. Я прошу её убедить Рихтера уделить мне немного времени для интервью. Рихтер тоже слушает довольно внимательно мою просьбу, обращённую к его жене, и я замечаю, что он не слишком обрадован таким поворотом дела. Он пытается извиниться и по-французски говорит: «Ну, это же прямо-таки опасно…» Но всё же мы решаем встретиться после ужина. Вот как всё это происходит.
Мы ужинаем в тот вечер в переполненном ресторане в центре города. Рихтер доволен. Я бы сказал, даже чрезвычайно доволен. Целый день он репетировал в театре «Комунале» квинтеты Дворжака для концерта, который назначен на завтра, но он совсем не кажется усталым. Он с удовольствием рассматривает всё и шутит с официантами, которые стараются изо всех сил и бегают вверх и вниз по лестнице ресторана. И завсегдатаи ресторана тоже обращают внимание на человека, который сидит в углу и с большим юмором, хотя и чуть громковато отвечает на вопросы собеседников.
Он произносит несколько благодарственных слов в адрес нашего журнала, заметив, что читает его всегда с удовольствием. Нина Дорлиак с другой стороны стола соглашается с ним мягкой улыбкой. Наш разговор продолжает вращаться вокруг журнала «Музыка». Рихтер говорит о статьях, которые он читал, о фотографиях, которые его заинтересовали, особенно о последней странице. Он с удовольствием вспоминает фотографии Клаудио Аббадо как футболиста, Корто в виде ковбоя, фото Бернстайна, голого по пояс. Свежесть, которую доносит ветер с реки Арно, весёлость нашего разговора, шумливость публики в ресторане, великолепное вино «Кьянти», – кажется, всё это играет мне на руку. И действительно, после того, как было покончено с двумя видами закусок и с первыми блюдами, Рихтер, своими большими руками начиная разделывать флорентийский бифштекс, наконец-то предлагает мне приступить к интервью. После ужина мы пешком возвращаемся в гостиницу, садимся в небольшой гостиной и ведём беседу. Рихтер не хочет, чтобы я включал магнитофон, говорить он предпочитает на немецком языке, а не на французском, на котором мы говорили до сих пор весь вечер.
На нашей беседе присутствует уважаемая синьора Эми Мореско, которая занимается организацией концертов Рихтера в Италии. Я должен принести ей благодарность и за её содействие в организации этого интервью.
Не могли бы Вы описать музыкальную атмосферу в Вашей семье?
Мой отец, Теофил Рихтер, был пианистом и преподавателем фортепиано. Он долгие годы жил в Вене, где учился фортепианному искусству и искусству композиции у профессоров Фукса и Фишофа.
Он играл на органе, правда?
Да, но лучше всего он играл на фортепиано. Он был блестящим пианистом, очень образованным и глубоким. От него я унаследовал музыкальность. Кроме моего отца единственным и поистине настоящим учителем, тем, кто открыл для меня горизонты музыки, был Генрих Нейгауз.
Что Вы помните о Житомире – городе, где Вы родились?
Я хорошо помню этот город и всегда вспоминаю о нём с любовью. Это провинциальный городок, очень маленький, там много домишек с садами в типично украинском стиле. Сегодня, к сожалению, всё уже изменилось. Он уже перестал быть таким, каким остался в моей памяти. Впрочем, я всегда возвращаюсь туда мысленно, да и приезжаю почти каждое лето. Мне очень нравится приезжать иногда в те места, где прошло моё детство, чтобы вспомнить его…
Вы возвращаетесь туда, чтобы играть?
Нет, в последние годы я не давал концертов в Житомире.
Первые годы Вашей молодости Вы провели в Одессе, где началась Ваша музыкальная карьера, как и у многих других русских пианистов. Какова была атмосфера в этом городе, какой Вы её помните?
Я жил в Одессе до двадцати двух лет. Это город, который я всегда вспоминаю с тоской, хотя особенно сильно я его никогда не любил. Одесса очень живописный город, средиземноморский. Немножко он напоминает ваш Неаполь. Это не настоящий русский город… Но моя пианистическая карьера началась по-настоящему в Москве, в Одессе я был только концертмейстером в оперном театре. Есть одна легенда, по-видимому придуманная в Нью-Йорке, согласно которой я был дирижёром оркестра в Одессе. Это абсолютный абсурд.
Но в Одессе Вы сыграли свой первый концерт, не правда ли?
Да, это было в 1934 году, мне исполнилось уже девятнадцать лет. Но это не был концерт в настоящем смысле слова.
Где он прошёл?
Он прошёл в клубе инженеров – культурном центре города – перед публикой, которую составляли мои друзья и знакомые.
Вы помните программу того вечера?
Да, он был целиком посвящён Шопену.
После Одессы Вы приехали в Москву, чтобы учиться у Нейгауза? Каким был Генрих Нейгауз как человек?
Это был необыкновенный человек – высочайшей культуры. У него было какое-то особое, я бы сказал – колоссальное обаяние. Он был человеком с большой буквы прежде всего в нравственном плане. Его обучение было в основном гуманитарным (кроме того, что было музыкальным), и это осталось неизгладимым в моём сердце. Нейгауз происходил из немецкой семьи, которая была знаменита своими музыкальными традициями. Его двоюродный брат – Кароль Шимановский, знаменитый польский композитор. Нейгауз был племянником Феликса Блуменфельда, замечательного пианиста, учеником которого был, например, Владимир Горовиц. Нейгауз учился у Годовского в Meisterschule в Берлине. Его семья жила в Елизаветграде, на Украине, где дома́ Нейгауза и Шимановских стояли один напротив другого, через дорогу. Прежде чем переехать в Москву, Нейгауз учился в Киеве, был большим другом Артура Рубинштейна и Горовица. Нейгауз обладал широчайшей гуманитарной культурой. Его интересовала и живопись, и литература, и вообще искусство в целом. Чтобы представить себе всю значительность и интеллектуальный аристократизм Нейгауза, я бы хотел сравнить его с фигурой Томаса Манна. Я не смогу забыть его огромную любовь ко мне, его дружбу, его советы и его настойчивые просьбы, чтобы я приложил все свои силы, всю свою энергию к музыке и фортепиано.
Другим выдающимся преподавателем музыки в вашей стране был Александр Гольденвейзер. Вы его знали?
Да, конечно. Я его хорошо знал: он был профессором консерватории в Москве. Это был человек высокого интеллекта, эрудит, но, с моей точки зрения, несколько сухой и холодный. Память о нём как-то потерялась в России. В то время как легенда и память о Генрихе Нейгаузе продолжают жить в душе многих музыкантов.
Гольденвейзер не ладил с Нейгаузом?
Да, конечно. Они были совершенно противоположными людьми и исповедовали абсолютно противоположные методы преподавания. Это, разумеется, не отнимает у Гольденвейзера тех успехов, которых он достиг, и того факта, что из его класса вышли отличные музыканты, например, Григорий Гинзбург, Роза Тамаркина, Дмитрий Башкиров, Лазарь Берман.
Константин Игумнов тоже был великим учителем?
Конечно, достаточно вспомнить, что он создал таких пианистов, как Николай Орлов, Лев Оборин, Яков Флиер, Мария Гринберг, Белла Давидович. Я всегда испытывал глубокое уважение к Игумнову.
Говорят, Вы прекрасно рисуете?
Это всё в прошлом. Теперь я уже не рисую, у меня не хватает на это времени. Должен отметить, что я всегда рисовал только в свободное время, это было моим хобби. Я никогда не претендовал на то, чтобы стать настоящим художником. Мне очень нравится живопись, так же как нравится, например, театр, литература и кино.
Кстати, о кино. Много лет назад Вы участвовали в фильме «Композитор Глинка», играли роль Ференца Листа. Что Вы помните об этом опыте?
Режиссёр Григорий Александров и знаменитая актриса Любовь Орлова пригласили меня на роль Листа в их фильме. Я с большим удовольствием принял это приглашение. Хотя, я должен теперь это сказать, этот опыт меня несколько разочаровал. Я рассчитывал, что буду работать, репетировать вместе с другими актёрами, а получилось так, что фильм снимали отдельными кусками. Но в любом случае моё знакомство с Александровым, его женой, артистом Смирновым, который играл роль Глинки, оказалось для меня очень важным и приятным.
Что Вы тогда играли?
Я играл «Марш Черномора» из оперы Глинки «Руслан и Людмила» в обработке Листа.
Когда был снят этот фильм?
Его съёмки закончились в 1951 году. Оператором был знаменитый Тиссэ, коллега Эйзенштейна.
Что Вы можете сказать о Сергее Прокофьеве?
Это был исключительно суровый человек, с нерушимыми моральными принципами. Он жил, целиком погружённый в свою работу.
Когда Вы с ним познакомились?
Осенью 1940 года, когда я имел честь исполнять его Шестую сонату. Это не было первым исполнением, поскольку сам Прокофьев играл её на радио за неделю до этого. Но в любом случае для меня это было событием исключительной важности. В тот вечер Прокофьев сидел среди публики и подошёл к эстраде, чтобы пожать мне руку. В тот день мне открылось всё его обаяние.
Вы стали друзьями?
Я бы не сказал так, но у нас были отличные профессиональные отношения.
Вы давали вместе концерты?
Да, я играл партию фортепиано, а он дирижировал оркестром.
Вы помните какую-нибудь из таких программ?
Да, я помню программу марта 1941 года, до того, как у нас началась война. Мы играли Пятый концерт.
Каким был Прокофьев как дирижёр?
Он был очень точен и работал как метроном. Я бы сказал, что он дирижировал всегда в соответствии со своим композиторским стилем.
Какую из сонат Прокофьева Вы предпочитаете?
Восьмую. Это моя любимая соната.
Прокофьев её посвятил Мире Мендельсон?
Да, своей второй жене. Это она написала либретто оперы «Война и мир».
Вам он посвятил свою последнюю сонату, Девятую?
Да, и я был очень польщён посвящением. Эта соната мне очень нравится, хотя особенно часто я её не играю.
Сколько времени Вы посвящаете работе над техникой?
Я никогда не занимаюсь отдельно техническими упражнениями. Я предпочитаю заниматься музыкой.
Вы когда-нибудь сочиняли музыку?
Да, когда я был ещё очень молодым, прежде чем поступил в консерваторию. Я даже начал писать оперу, но она так и осталась незаконченной.
На какую тему?
На тему Метерлинка «Ариана и Синяя борода». Тот же сюжет, который использовал Поль Дюка.
Какое музыкальное произведение Вы считаете наиболее сложным?
Сонату ор. 106 Hammerklavier Бетховена. Я считаю также, что прелюдии и фуги Шостаковича содержат очень много трудностей для пианиста. (Здесь Рихтер несколько задумывается и потом говорит очень тихо, как будто сам с собой.) Ну, также Моцарт… Моцарт, пожалуй, самый трудный.
У Вас есть какой-то особый способ изучения произведения?
Я бы не сказал.
Сколько часов в день Вы обычно занимаетесь?
Три часа каждый день.
Кого бы Вы предпочли – Горовица или Рубинштейна?
Я очень люблю Рубинштейна. К тому же мы уже много лет крепко дружим. Но Горовиц мне тоже нравится, хотя его стиль несколько дальше от моего.
Что Вы думаете о той музыке, которую пишут сегодня?
Есть музыка хорошая, и есть музыка плохая. Но сегодня очень трудно давать какие-либо точные определения. Вот через тридцать лет мы, может быть, и сможем что-нибудь сказать.
Какую музыку Вы любите больше всего?
Я безумно люблю камерную музыку. И, естественно, ту, которая написана специально для фортепиано. Но больше всего я всё-таки люблю оперу.
Вы считаетесь с мнением критики?
Не особенно. Несколько раз критики меня очень разочаровывали. От некоторых знаменитых критиков я ожидал более профессиональных заключений о моём стиле игры. Я часто рассчитывал не на обычную, заранее составленную статью, которую могли написать, допустим, за день до концерта. Были и такие критики, которые на концерте не могли даже узнать, что я играл «на бис», и путали, например, Шопена с Дебюсси или с Брамсом.
Что Вы думаете о фортепианных конкурсах?
Не могу сказать, что отношусь к ним положительно. Разумеется, они дают молодым исполнителям блестящие возможности начать свою карьеру. Но члены жюри, которые иногда вынуждены слушать двадцать раз подряд одну и ту же пьесу, не могут высказывать объективное мнение.
Вы когда-нибудь входили в состав жюри какого-нибудь конкурса?
Это было единственный раз, у меня только один такой опыт, когда я входил в состав жюри Первого международного конкурса имени Чайковского в Москве, в 1958 году. Победителем конкурса в тот год был американец Ван Клиберн.
Вы много раз играли с Давидом Ойстрахом. Что Вы помните о нём?
Человек исключительной скромности. Может быть, самый скромный из всех, кого я когда-либо знал. Великий художник, как это все знают. Звук его скрипки был самым красивым и самым сильным, который можно было когда-либо услышать. Мы начали играть с ним в последние годы его жизни. Очень жаль, что судьба не позволила нам работать вместе гораздо больше.
Вы когда-нибудь преподавали?
Нет, я никогда не преподавал и не думаю, что у меня когда-нибудь будут ученики.
Вы могли бы дать несколько советов молодым исполнителям?
Да, конечно. Я несколько раз помогал своими советами молодым исполнителям, с которыми я играл камерную музыку.
Есть какой-нибудь исполнитель прошлого, который Вас особенно интересует?
Очень трудно ответить на Ваш вопрос. Я боюсь забыть какое-нибудь имя.
А Вы можете назвать хотя бы одно?
Я назвал бы прежде всего Рахманинова.
Вы слушаете записи других пианистов?
Иногда, когда нахожу для этого время. По правде я должен сказать, что проблема техники и интерпретации вообще в том, что касается фортепиано, меня интересует довольно мало. Меня не интересует, как другие пианисты решают какие-то вопросы. Я предпочитаю следовать своему внутреннему голосу, своему инстинкту и пытаюсь дать своё личное видение. Нейгауз, например, всегда соглашался с таким взглядом на исполнение, всегда одобрял меня и ориентировал на независимость. Я помню, однажды Игумнов сказал мне, что я недостаточно люблю фортепиано. Может быть, он прав. Я люблю музыку.
Среди своих собственных пластинок какую Вы предпочитаете?
Два концерта Листа с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Кондрашина, концерт Грига, который был записан в Монте-Карло с Матачичем и «пиратский» диск с сонатой Листа h-moll, запись которой на пластинку была сделана нелегально с моего концерта в Карнеги-холл. Есть и другие произведения, которые как будто удались, – подборка новеллетт Шумана и прелюдий Шопена, которые я записал в Японии несколько лет назад.
А вообще какой у Вас самый любимый диск?
(Он отвечает тут же и с большим энтузиазмом.)
«Море» Дебюсси с Роже Дезормьером. Это блестящая пластинка. С моей точки зрения, самая лучшая пластинка в мире. Она была записана «Супрафоном» в Праге много лет назад.
Когда-то Вы мне говорили, что хотели бы заняться режиссурой оперы. У Вас есть какие-нибудь проекты в этой связи?
Нет, у меня нет никаких проектов. Я не думаю, что могу сделать что-либо подобное.
В молодости Вы были аккомпаниатором в опере в Одессе. Каким образом Вам пришла мысль стать пианистом-концертантом?
Должен сказать, что фортепиано меня всегда завораживало. Я никогда не прекращал изучать его. И меня всегда очень интересовали профессиональные отношения с этим инструментом. Вот поэтому я и поступил в консерваторию.
Если бы у Вас на то было время, Вы бы захотели стать дирижёром оркестра?
Думаю, что нет. Звучание оркестра – это что-то магическое. Это будто часть какой-то тайны, которая меня всегда завораживала. А быть дирижёром оркестра, изучать партитуру означает для меня разрушить эту тайну и превратить всю её в сложение мелких технических приёмов. Я предпочитаю быть с другой стороны, предпочитаю сидеть в зале и слушать. Тогда я чувствую себя более счастливым, чем если бы я стоял за дирижёрским пультом.
Но разве этой же тайны, этого волшебства нет у фортепиано?
Нет, она не в фортепиано, она в литературе – в нотах.
Вы никогда не выступали в качестве дирижёра оркестра?
Один-единственный раз, в 1952 году. Друзья убедили меня встать за дирижёрский пульт и руководить исполнением концерта для виолончели с оркестром Прокофьева. Солистом был Мстислав Ростропович.
Если бы до сих пор оставалась традиция перекладывать оркестровые произведения для фортепиано, Вы бы хотели сами заняться этим?
Вообще-то говоря, такая традиция ещё существует. Молодой Михаил Плетнёв в этой области сделал очень много выдающегося. Однако я против таких переложений. У оркестра свои звуки, свои краски, свои тона, и они принадлежат только ему. Сократить всё это и переложить на фортепиано – равносильно великому греху. Очень много теряется того волшебства, о котором я говорил прежде, и результат, которого можно достичь таким образом, с моей точки зрения, весьма проблематичен.
Однажды мне сказали, что в свободное от занятий время Вы любили исполнять симфонические и оперные партитуры.
Я больше этого не делаю. Прежде всего, у меня нет времени, да, наверно, и пропал интерес по причинам, которые я только что изложил.
В Вашем репертуаре есть весьма любопытные пробелы, например, Вы никогда не играете Скарлатти, «Карнавал» Шумана…
Вы знаете, я играю всегда только то, что мне хочется и нравится играть.
Из концертов Бетховена, например, Вы играете только два.
Да, Первый и Третий.
А я могу спросить, какой из этих двух Вы предпочитаете?
Первый, безусловно Первый.
А концерты Баха?
У меня в репертуаре их семь.
Вам страшно перед концертом?
Да, естественно. Мне всегда очень страшно. (Он качает головой и грустно улыбается.) И я считаю это нормальным, что исполнитель перед концертом испытывает эстрадное волнение. Но из него у меня рождается уверенность, появляется какая-то новая энергия и колоссальное желание сыграть как можно лучше, преодолеть все трудности и победить самого себя. Я знаю и слышу иногда, что молодые исполнители-пианисты хвастаются, что они ничего не боятся. Видя, как они холодновато и чисто технически подходят к карьере концертанта, я спрашиваю себя: станут они знаменитыми исполнителями или нет?
Есть какой-нибудь особенный эпизод в Вашей карьере, который Вы могли бы рассказать читателям журнала «Музыка»?
(Он смущается, не хотел бы отвечать, потом начинает говорить, глядя в пол.)
Во время войны, когда я давал свои первые концерты в Москве, у меня была привычка пешком идти на концерт. Почти всегда, когда я приближался к зданию, где должен был быть мой концерт, кто-нибудь подходил ко мне и потихоньку спрашивал: «Вы не хотите купить билет на концерт Рихтера?» Другой случай произошёл год назад, когда я играл в Большом зале консерватории программу, составленную из тринадцати прелюдий Рахманинова. Когда я играл третью прелюдию, в зале погас свет. Я продолжал играть в совершеннейшей темноте, и только в конце, когда я заканчивал прелюдию c-moll op. 23, свет наконец опять зажёгся именно в тот момент, когда я взял последний аккорд в C-dur на fortissimo. (Рихтер делает движение руками, как будто он в этот момент берёт аккорд.) Публика сорвалась с мест в полном восхищении и устроила мне овацию за эту случайность.
Вы бы хотели поехать с концертами в какую-нибудь страну, где Вы ещё никогда не были?
Ну, есть много стран, где я ещё никогда не играл: Мексика, страны Латинской Америки, Австралия, Индия, Исландия. В настоящее время я не строю никаких планов. Может быть, когда-нибудь судьба и предложит мне что-нибудь… Но вообще я должен сказать, что меня очень притягивают страны, в которых я ещё никогда не был.
В каких городах своей страны Вы предпочитаете играть?
Вся советская публика следит за концертами с огромным интересом. Музыка у нас очень популярна. Если говорить о том, в каком городе мне больше всего нравится играть, то я скорей всего назвал бы южные города, например в Грузии, на Украине, где меня всегда принимали с большой симпатией. Кроме того, в Сибири, в частности в Иркутске, поскольку там очень давние, глубокие музыкальные традиции.
Было ли что-то в Вашей музыкальной карьере, что принесло Вам наибольшее удовлетворение?
Ну, об этом я не смогу вспомнить. Я предпочитаю помнить отрицательные впечатления моей жизни, а не положительные. Свои успехи я забываю очень быстро.
Почему Ваши пластинки в основном записываются с концертов?
Мне кажется, что подобная запись более искренняя, но здесь тоже есть своя трудность: нужно найти тот вечер, когда данная программа будет сыграна лучше всего, а это не всегда легко.
Вы собираетесь в ближайшее время записать новые пластинки?
В конце этого года выйдет моя антология, которая будет состоять из небольших произведений Прокофьева: нескольких «Мимолётностей», отрывков из балета «Золушка», вальса ор. 32. Это интересная пластинка, которая, надеюсь, понравится слушателям.
Вы хотели бы записать два знаменитых квинтета Дворжака, которые Вы исполняли в июне, во время своего последнего пребывания в Италии?
Может быть, если мне представится такая возможность.
С какими дирижёрами Вы предпочитаете играть?
В прошлом я играл с несколькими дирижёрами, с которыми у меня сложились дружеские, хорошие отношения, например, с Карлосом Клайбером, с вашим Риккардо Мути. Другие знаменитые дирижёры, с которыми я играл и с которыми у меня отличные артистические отношения, профессиональные связи, – это Евгений Мравинский и Кирилл Кондрашин.
Во время Вашего последнего турне по Италии Вы исполняли сонату для альта и фортепиано Шостаковича. Вы давно играете это произведение?
С тех пор как я знаю молодого альтиста Юрия Башмета, подлинного мастера. Соната для альта – это последнее произведение Шостаковича, очень насыщенное и трагическое, великолепное произведение.
Вы знали Шостаковича сами, правда?
Да, последние годы я с ним дружил. У нас не было особенно близкой дружбы, но мы друг друга очень уважали.
Каким был Шостакович как человек?
Очень скрытным и замкнутым. Он был о себе высокого мнения и недолюбливал некоторых своих коллег-композиторов, например, Скрябина и даже Дебюсси. История музыки знает и другие примеры, когда композиторы не любили своих коллег. Так, Шопен не любил Мендельсона, Шумана, Бетховена. Но известны и композиторы, более внимательные к произведениям других авторов – в частности Шуман, поскольку он ведь был ещё и музыкальным критиком. Лист тоже всегда с интересом следил за работами своих современников.
Это правда, что Вы особенно любите Вагнера?
Да, для меня Вагнер – это нечто высочайшее. Его значительность, с моей точки зрения, в том, что его музыка познавательна как универсальная модель мира. Я не могу даже сравнивать Вагнера с другими композиторами. Это фигура, которая по своей величине и гению может равняться, например, Шекспиру.
Вы когда-нибудь были в Байрейте?
Да, два раза.
Какие произведения Вагнера Вы любите больше всего?
«Кольцо Нибелунгов», естественно. Я очень люблю этот цикл.
А что именно в нём?
«Гибель богов».
Вы играете на каком-либо другом инструменте, кроме фортепиано?
Много лет назад, ещё до войны, я играл немного на органе.
Вас обучал этому отец?
Да, мой отец был органистом в театре в Одессе, и иногда я заменял его.
В какой эпохе Вы предпочитали бы жить?
Я прекрасно чувствую себя в наши дни, но если я должен ответить на этот вопрос, то я бы сказал – в античности.
Пробило полночь. У меня ещё очень много вопросов, но я чувствую, что уже поздно и Рихтер устал. Лучше не настаивать. Мне кажется, что он уже немножко недоволен. Именно сейчас я чувствую, как он не любит отвечать на вопросы. Его ответы становятся всё короче и короче. Может, он уже думает о завтрашнем концерте. Кажется, он хочет ещё что-то добавить, но, вероятно, не находит нужных слов. Может, он просто хотел бы поговорить, не отвечая на какой-то конкретный вопрос. Мы прощаемся, но он просит меня задержаться ещё на несколько минут. Он идёт в комнату и почти сразу же возвращается, держа в руках увесистый том, переплетённый в шёлк, который он, должно быть, только сейчас, в той комнате, завернул в зелёно-голубую бумагу, а также какой-то пакет. Пакет он кладёт на столик и просит меня посмотреть. «Это мой подарок, – говорит он, – это из моей страны». Я открываю пакет и вижу две милые статуэтки из фарфора. Одна – стилизованный бык, который, не знаю почему, сразу напоминает мне «Да здравствует Мексика!» Эйзенштейна, вторая – татарский всадник, который держит в руках музыкальный инструмент, похожий на балалайку, а на груди у него висит фотография Рихтера, очень молодого, одетого во фрачную пару. Я уже представляю себе мысленно, на какую страницу журнала я помещу эту фотографию (вы можете видеть её на последней странице нашего журнала), и представляю себе, как эти фигурки найдут себе место на нашей выставке в редакции, как вдруг Рихтер обращает моё внимание на третий предмет: «Это очень интересно», – говорит он, показывая мне на том в своей руке. Это нечто вроде дипломной работы, написанной на машинке, на русском языке. Рихтер объясняет: «Здесь весь мой репертуар, всё то, что я сыграл в концертах с 1934 года до сегодняшнего дня. Сюда не вошли только произведения, которые я аккомпанировал певцам. Но я Вас очень прошу, опубликуйте также репертуар других пианистов, не только мой». У меня нет слов, чтобы поблагодарить его. Я говорю только, что журнал «Музыка» – его большой друг и что мы очень надеемся встретиться с ним скоро снова… – эти слова я говорю ему вслед, потому что он скрывается в лифте, и вид у него такой важный, как у главы какого-либо государства.
Я возвращаюсь в свою гостиницу, специально выбирая самый длинный путь, чтобы как-то пережить все впечатления сегодняшнего вечера. Набережная Арно, Понте Веккьо, Пьяцца делла Синьория, главный собор города проплывают передо мной, освещённые, как в каком-нибудь фильме. Неужели правда я взял интервью у Рихтера? И вновь думаю о том, что я только что услышал. Всё это чрезвычайно интересно, хотя о чём-то мы и не успели поговорить. Может быть, я не успел задать каких-то вопросов, а может быть, какие-то ответы были недосказаны. Один раз Рихтер сказал: «Это интервью не должно быть напечатано, оно должно остаться между нами». Иногда он говорил: «На этот вопрос я бы предпочёл ничего не отвечать».
Я подхожу к знаменитой колокольне Джотто и сажусь на ступеньки перед фасадом Баптистерия. На площади, освещённой яркими огнями дневного света, ещё очень много народу: молодёжь, туристы, люди, которые просто отдыхают от дневной жары, – все здесь на этом пятачке в центре. А вот какой-то английский мим показывает небольшие сценки, вокруг него собралась толпа любопытных. Я начинаю перелистывать книгу – репертуар Святослава Рихтера, и наконец понимаю – понимаю всё значение этой книги, которая попала мне в руки. В этой книге есть ответы на многие мои вопросы. Здесь есть всё то, о чём сегодня мы недоговорили. Разумеется, не в словах и не в рассказах – это в той музыке, которую исполнял Рихтер. Как будто он хотел сказать мне, когда отдавал эту книгу: «Вот. Здесь я весь. Это вся моя история, вся моя работа. Может быть, и не нужно было о ней говорить».

Опубликовано в минской газете 9 СЕНТЯБРЯ 1997г. ВТОРНИК №171 (8729)
Владимир Шелихин.
Как я "играл" с Рихтером
Минчанам повезло на встречи с великим пианистом. Он выступал у нас около
тридцати раз. Сколько прекрасной музыки услышали мы в его исполнении,
сколько душ озарил его могучий талант! Ну а мне выпало счастье вести все
эти незабываемые концерты. Рассказать о том, как играл Рихтер, — это все
равно что сыграть так, как он.
Впервые Рихтер выступил в Минске в июле 1957 года. Святослав Теофилович —
великий труженик и в чем-то большой ребенок. За кулисами был прост и
общителен. Потрясала его работоспособность. Случалось, сразу после
концерта он закрывался в классе и занимался там четыре-пять часов. С
годами у нас установились уважительные отношения. Каждый год я регулярно
поздравлял его с днем рождения и Новым годом. И не было случая, чтобы он
не ответил мне. А новогодние поздравления он порой присылал первым. У меня
много открыток от него из-за рубежа. Разные страны, разные виды...
Сначала Рихтер выступал у нас только с сольными концертами. А потом мы уже
слышали его в ансамбле со скрипачом Олегом Коганом, виолончелисткой
Натальей Гутман, пианистом Василием Лобановым, певицей Галиной Писаренко,
квартетом Бородина. И вот здесь я уже сидел во время концерта рядом с
Рихтером — "помогал" ему играть: переворачивал ноты. Надо сказать, что
эта, казалось бы, не столько сложная миссия весьма ответственна.
Рихтер был не только великий пианист, но и великий гражданин своей страны.
Чего стоило его историческое турне от Москвы до Дальнего Востока с заездом
даже в те города, где рояля не видели и не слышали! И это — не баловство
гения. Он хотел как можно большему количеству людей открыть мир музыки,
который обогащает жизнь человеческую. Бывая в Беларуси, Рихтер играл не
только в Минске. И как-то по дороге в Молодечно, сидя рядом с ним в
машине, я пытался скрасить дорогу забавными выдержками из писем
радиослушателей (я в то время работал на радио). Больше всего Святослава
Теофиловича развеселило такое "откровение": "Я хоть и замужем, а все равно
очень люблю музыку".
Смело могу утверждать: каждое выступление Рихтера становилось событием.
Однажды он исполнял концерт Гайдна с нашим камерным оркестром. Публика так
долго неистовствовала, что он с дирижером Юрием Цирюком решили исполнить
какую-нибудь часть на "бис". Первую, вторую или финал? Долго
судили-рядили, и вдруг Рихтер решительно сказал: "Сыграем весь концерт
снова". Переполненный зал счастлив... Позднее по инициативе пианиста этот
концерт с камерным оркестром Беларуси он сыграл в Большом зале Московской
консерватории.
В поисках наиболее точного раскрытия авторского замысла Святослав
Теофилович порой удивлял публику. Так, в концерте Шумана фортепианная
партия начинается сразу после аккорда оркестра бурным нисходящим
темпераментным пассажем. И Рихтер буквально набросился на рояль, еще не
сев за него. Мне рассказывал известный в свое время белорусский дирижер,
заслуженный деятель искусств Владимир Мошенский, что именно такое начало и
было задумано. Без традиционного приготовления солист и дирижер
стремительно вышли к оркестру, и сразу зазвучала музыка. Волею судеб
Мошенский покинул музыкальное искусство и стал служителем в духовном мире.
Теперь он дьякон отец Геннадий. Но снимок запечатлел нас в антракте
репетиции, а по радио порой звучит запись этого концерта, красноречиво
подтверждая, что трудно себе представить лучшее исполнение дивной музыки
Шумана.
Из всех выдающихся исполнителей чаще всех в Минск приезжал именно Рихтер.
Более двадцати раз играли Владимир Третьяков, Наум Штаркман, Николай
Петров, Игорь Ойстрах. Но чемпионом оставался Святослав Рихтер. Попасть на
его концерты всегда было сложно. Филармония стала продавать билеты и на
сцену. А в последние годы пианист исполнял музыку только по нотам, не
наизусть, как прежде. Маэстро считал, что, кроме расширения репертуара,
это освобождает исполнителя от ненужных усилий и риска и дает ему
возможность целиком погрузиться в настроение исполняемого произведения. С
этой же целью, чтобы ничто постороннее не отвлекало ни солиста, ни
публику, Рихтер играл в зале, погруженном в полный мрак. Лишь небольшой
прожектор освещал ноты. Не потому ли его последние концерты в Минске
особенно запечатлелись в памяти и в сердце? В одном из них он играл этюды
Листа высшей степени сложности. Впервые мы услышали их в исполнении
Рихтера более тридцати лет назад. Время не наложило отпечатка на его
виртуозность. Добавило лишь мудрости. "Бисы" он играл уже без нот.
Незабываемы вечера с английскими и французскими сюитами Баха. Во время
исполнения одной из них Святослав Теофилович попросил меня после того, как
он снимет руку с клавиши в басу (нота "фа диез"), подержать ее пальцем.
Его руки в это время находились в другом регистре клавиатуры. "А можно я
потом возьму и "соль"? — спросил я. "Нет, ее я сыграю сам", — ответил,
улыбаясь, маэстро. "Что ты там делал?" — спрашивали меня многие после
концерта. "Помогал Рихтеру играть", — с шутливой гордостью отвечал я.
Прощаясь, попросил: "Приезжайте, пожалуйста. Еще "сыграем" дуэтом".
Огненным мечом пронзила меня весть о смерти дорогого Святослава
Теофиловича. Слезы сдавили горло. Мы не увидимся больше.
Эти воспоминания были опубликованы в сороковой день со дня смерти великого
пианиста.

Т.ФООГД-СТОЯНОВА
«Музыкальная жизнь», 1998, №3.
СВЕТИК
Я помню сон, в котором кто-то мне говорит: пронеси память об отчем доме.
Марчелло Мастроянни, 1997
Я помню «мысик» над морем в Одессе. Он выступал над высоким обрывом. Открывался замечательный вид на море и извилистую линию берега. Внизу зеленый обрыв переходил в желтые скалы ракушечника. Между ними проглядывали маленькие пляжики.
Я помню бледное перламутровое море перед восходом солнца.
Я помню на фоне отдаленной музыки и голосов наш «не-разговор» со Светиком.
Я помню, как медленно появилось из моря солнце. Было лето 1938-го.
Я помню, что, живя уже много лет за границей, я очутилась перед сложной задачей написать комментарий о М.Юдиной и В.Софроницком в примечаниях публикуемых мной писем моего отчима, В.Пяста.
Я помню – меня осенила мысль спросить об этом у Рихтера. В последний раз я виделась с ним в Москве в сороковом году. Он жил тогда у Нейгауза. Я была уверена, что он забыл меня, и решила напомнить свадьбу моей кузины. Но обратиться к нему по имени и отчеству было странно. Родители называли его «Светик». Так обращались к нему и у нас. И так он стал подписывать свои письма и открытки до самого конца. Ответ из Москвы пришел сразу. Рихтер пишет: «Милая Таня! Очень интересно и неожиданно было для меня Ваше письмо! Восход солнца, море и дачу Верочки Скроцкой я очень помню; и поверьте – помню также и Вас: Вы как-то не особенно подходили к опьяненно-разнузданной компании гостей в тот вечер... Перехожу прямо к делу: Мария Вениаминовна Юдина родилась в 1899 году. Она и сейчас успешно выступает. Это пианистка с очень сильной индивидуальностью, с мужским темпераментом, мощной техникой и очень оригинальным музыкальным мышлением. Ее искусство потрясает, можно сказать – даже подавляет иногда. Владимир Владимирович Софроницкий одно время прекратил на несколько лет концертную деятельность по состоянию здоровья; теперь он уже три года как вновь выступает, по общему мнению, так же прекрасно и даже, может быть, лучше, чем прежде... Буду очень рад увидеть Вас; все ведь в жизни бывает. Шлю Вам сердечный привет и желаю всего, всего самого хорошего. Светик. 8/2/1961».
Я помню, как я обрадовалась, получив через 30 лет после этого первого письма фотографию с надписью: «Дорогой Тане. В воспоминание о востоке, где солнце всходило над морем. Любящий Светик».
Я помню, с какой радостью в течение 35 лет я несколько раз в году вынимала из почтового ящика его открытки. Они прилетали отовсюду – из России, из Италии, из Франции, Австрии, Германии, Финляндии, Испании, Швеции, Греции, из Америки, из Японии. Чаще это были не письма, а именно открытки. Могло показаться, что они повторяют друг друга. Могло, показаться... но память сердца – неоценима.
Я помню, я написала как-то Святославу Теофиловичу о нашей довоенной встрече на концерте Нейгауза. Для меня это было событие – я слышала Нейгауза в первый раз. В искусстве исполнения для меня открылся особенный мир. Я часто об этом думала. Рихтер пишет: «Милая Таня! Спасибо Вам за письмо из Одессы. Я помню тоже этот концерт Нейгауза в бирже; кажется, что это было в прошлом году... Для меня Одесса уже давно не существует; ведь я и раньше ее не любил... Всегда Ваш Светик».
Я помню свою первую попытку навестить Рихтера в Брюсовском переулке. Я не предупредила, что проездом в Москве. Принесла цветы. Никто не открыл, и я прикрепила их к ручке двери.
Я помню мой «первый рихтеровский концерт» в мае 1966 года. Я говорила с Ниной Львовной по телефону, и она пригласила нас (я была с сыном) на концерт на следующий день. Кажется, в Москве праздновался День Победы. Стояла страшная жара. Концерт был в Зале Чайковского. Публику впустили только за десять минут до начала. Рихтер решительной походкой вошел в зал, коротким поклоном приветствовал слушателей, сел за рояль и сразу стал играть.
Я помню, я была ошеломлена. В перерыве направилась в артистическую, открыла дверь. В глубине комнаты Рихтер был занят разговором с какой-то женщиной. Навстречу шла Нина Львовна с предупреждением, что Славу лучше не отвлекать, к нему пришла Фурцева. Но, прибавила она, «был приказ» пригласить нас к ужину.
В громадной комнате с двумя роялями был накрыт стол. Кроме нас пришел Митя Дорлиак и очень разговорчивая дама из Франции, по-видимому импресарио. Она говорила с большой охотой. Время от времени Светик находил предлог посетовать, что он играл плохо в тот вечер. Понятно, с ним не соглашались. Я попыталась сказать, что видела в зале растроганных до слез людей и обнимающуюся от радости молодежь. Но он оставался безутешен. Раздался звонок. Нина Львовна вышла к телефону, а потом с удовольствием сообщила, что кто-то (я не запомнила имени) в восторге от концерта. Это подействовало. Светик повеселел, смеялся, делал фотографии.
Я помню, несколько лет спустя мне рассказали, что «Observer» напечатал анекдот о Рихтере, вариант того, что вспоминает в «Музыкальной жизни» В.Горностаева: переехав на Большую Бронную, Рихтер праздновал новоселье. Среди приглашенных была Фурцева. «Не могли ли бы вы, Святослав Теофилович, повлиять на Ростроповича, чтобы тот выставил со своей дачи Солженицына?» – попросила она, на что Рихтер якобы ответил: «Как же это я не догадался? Теперь у меня большая квартира, я могу его взять к себе!» Я передала это Светику. Он недовольно протянул: «Таня, ведь Фурцева никогда бы не могла переступить порога моего дома! Вы должны были бы это знать!»
Я помню, как не соответствовала моим воспоминаниям его внешность. Во-первых, в тридцатых годах у него была пышная рыжая шевелюра. Он мне казался тогда худым и очень высоким. А главное, Светик был довольно застенчив, старался оставаться в тени. Этот образ он закрепил, прислав как-то фотографию со следующей надписью: «Это карточка приблизительно той же давности, что и одесский собор (снято в Тарту, он же Дерпт и Юрьев (1949)».
Я помню эту его застенчивость на упомянутой свадьбе на даче в 1938 году. Его шумно уговаривали играть. Он отказывался, ссылаясь на расстроенное пианино (Ronisch), на котором от зимней сырости в дачном доме отклеились на нескольких клавишах пластинки слоновой кости. Защищаясь от напора, Светик предлагал поехать сразу всей компанией в город и играть там, где у Скроцких стоял великолепный «Блютнер». Его все-таки уговорили. Он сыграл мазурку Шопена.
Я помню серый двухэтажный особняк немецкого консульства на углу Садовой и Дворянской (она называлась тогда, конечно, иначе). В начале тридцатых годов там устраивались лекции и вечера танцев для избранной публики. На этих вечерах и познакомилась моя кузина со Светиком.
Я помню кирху, лютеранскую церковь, где по праздникам играл на органе отец Рихтера. Один раз я слышала его. Это было на Рождество. Посредине храма стояла пышная высокая елка. Она вся сияла свечами. Все было не так, как мы привыкли, – и елка, и орган, и загадочные ясли с ярко раскрашенными фигурками под деревом...
Я помню и немецкую школу рядом с кирхой, где учился Светик, а десять лет спустя моя сестра. Но это было уже иное время, когда дети должны были называть своих учителей по фамилии с прибавлением в обращении «genosse».
Я помню, как перед войной и кирха и школа были закрыты и обречены на полное разрушение. Но Светик уже давно переехал в Москву...
Я помню, я возвращалась в шестьдесят седьмом году из Франции вдоль моря к нам на дачу в Италии. Был июль, разгар сезона на Лазурном берегу. Я ехала медленно. Мое сердце было исполнено радости – накануне в Провансе, в старинном монастыре, крестили в православие моего мужа. Я долго ждала этого события, но обстоятельства сложились так, что крещение произошло неожиданно. Я полностью была в мыслях о том, что мы пережили в предыдущие дни. Вдруг в приморском городке Перво я увидела протянутый через дорогу плакат и успела разобрать только одно имя: «Рихтер». Это было оповещение о концерте на следующий день. Нельзя было представить себе более чудесного подарка!
Перво находится в двадцати километрах от нас. Этот прелестный городок вырос несколько столетий назад над морем на почти отвесном склоне скалы. Поэтому улиц в нашем понимании там нет, только узенькие переулки, круто устремляющиеся вверх. На полдороге вы попадаете на открытую к морю площадь. Противоположная ее сторона напоминает театральную декорацию в стиле барокко. Перед вами слегка вогнутый фасад собора Иоанна Крестителя во всю ширину которого на площадь спускаются ступени. Справа и слева от лестницы громоздятся домики – светло-розовые, желтые, терракотовые, увитые виноградом и бугенвилией. В одном из них живет венгр-музыкант, организатор фестивалей в Перво. Там и артистическая. Пространство между его домом и собором занимает широкий помост, который возводят на площади для концертов. А площадь уставляется стульями. Можно купить билет подешевле. К нему прилагается подушечка. И публика заполняет амфитеатром ступени собора.
Я помню, когда мы с дочкой заняли к девяти часам свои места, на помосте рояля еще не было. Итальянцы привыкли, что концерты всегда начинаются намного позже установленного времени, никто не спешит, люди заняты разговорами, едят мороженое, перекликаются с безбилетными слушателями на балконах и в окнах. Другими словами, обстановка непринужденная и нисколько не напоминающая напряженного ожидания появления на подмостках солиста, которая так поразила меня в Зале Чайковского.
Я помню, как мы испугались, увидев в половине десятого, как по зигзагообразным лестничкам спускаются два человека, толкая перед собой низкую длинную тележку с поставленным на ней ребром роялем. Мы застыли в ужасе. Но рояль благополучно установили на помосте. Возле него появился восточного облика человек, прошелся тихой хроматической гаммой по клавиатуре, что-то урегулировал и исчез. Через несколько минут он вторично появился на лестнице, следуя с чемоданом на почтительном расстоянии за маэстро. Последнего никто не признал, он был в летней, расстегнутой у ворота рубашке, прошел между стульев и скрылся в доме венгра.
Я помню, я слушала плохо. Мне мешало решительно все – публика, продолжавшая, хоть и тише, переговариваться, комментировать игру, лизать мороженое. Мне мешал грохот катящихся внизу, над самым морем поездов, спешивших из Ниццы в Геную. Мне неприятны были запахи итальянских блюд, струившиеся из окон. Да и мое собственное беспокойство: удастся ли поговорить со Светиком... Удалось!
Я помню, мы решительно открыли дверь и очутились в гостиной, прежде чем кто-нибудь мог закрыть перед носом дверь. Не пришлось объясняться с подоспевшим хозяином. Светик увидел нас раньше, подошел и сердечно расцеловался. Он очень был доволен концертом, прекрасно воспринял раскованность отдыхающих итальянцев и вообще был в хорошем настроении. «Китаец», как я его окрестила, уже стоял рядом с чемоданом, потупив глаза.
Я помню, в последующие годы мы несколько раз бывали в Черво, и я поняла, что Рихтер с определенной легкостью и нетребовательностью относится к таким концертам.
Я помню, в связи с этим он мне однажды рассказал: «Одесса перестала для меня существовать, когда взорвали собор (1934 г.?). Ведь собор был некрасивый. Но я любил его. И вы знаете, перед взрывом мне снился сон. Я в те годы работал в клубах, аккомпанировал всем всё. Куда получу направление, туда и еду... Песни, пляски, жонглеры... И вот во сне получаю направление идти играть в собор. Иду. В соборе вдоль стен столы, покрытые красным, как в клубах. Я и подумал, ну, если хотите, сыграю Дебюсси «Исчезнувший собор»...
Я помню, Рихтер рассказал мне тогда еще один одесский сон: «Я не переношу, ненавижу звонки... Особенно телефонные. Тогда, в тридцатые годы, от звонка весь вздрогнешь... И вот я как бы слышу страшный звонок в дверь. Иду открывать. Из-за двери голос: «Не открывайте, я страшный преступник!».
Я помню Лондон. Помню там нашу «полувстречу». Концертный зал находился на противоположном берегу Темзы. Перейдя мост, мы очутились в неприветливой части Лондона среди незнакомых зданий. Возле артистического входа было безлюдно и страшновато, хотя еще не наступила полная темнота. Какие-то закоулки, переходы, мостики... Ждать пришлось недолго. Поодаль остановилась одинокая машина. Первой вышла Нина Львовна, увидела, узнала и направилась к нам. Поздоровавшись, она сообщила, что «у Славы плохое настроение, он недоволен, что его слишком рано привезли на концерт». Мы решили не докучать и уйти, но Светик уже стоял рядом, быстро поцеловал руку и направился к входу.
Я помню, но неужели я ошиблась? На недовольном его лице я различила усы. Рыжие усы...
Я помню, как он стремительно подошел к роялю и сразу начал играть. Была Шумановская программа. Мы не стали искать артистическую. А на следующее утро уехали в Уэльс к родственникам. Была ранняя дождливая весна. В резиновых сапогах мы помогали сажать на грядках какие-то овощи.
Я помню – меня позвали к телефону. Звонила Нина Львовна. Оказывается, не увидев нас после концерта, Светик расстроился и решил непременно найти нас. Через знакомых русских прихожан лондонского собора удалось напасть на наш след. Я была донельзя растрогана и обрадована. Но в Лондон мы тогда не вернулись.
Я помню, каким светом и теплом Рихтер окружил нас с Аленой через несколько часов после того, как я получила известие о кончине моей мамы. В семьдесят третьем году, в январе, мы провели три недели в Одессе у постели умирающей мамы. Наши визы просрочивались, менять билеты на самолет было нельзя. Мама была уже несколько дней без сознания. Ожидать конца было невозможно. Мы задержались в Москве на полтора дня. С утра были на литургии у Николы в Хамовниках. Вернувшись в гостиницу, узнали, что мама скончалась во время пения Херувимской. Я не могла никого видеть, и мы пошли на Большую Бронную. Светик не играл, но рассказывал о своих картинах, говорил о Фальке, одарил пластинками... В горе, но с просветленной душой, мы улетели в Голландию.
Я помню конец апреля 1981 года. Я провела месяц со студентами-славистами в Москве. Была два раза на Бронной. Но накануне отлета в Амстердам позвонила Нина Львовна и пригласила на «день рождения отца Славы. Он отмечает его всегда». На этот раз Рихтер позвал Наталью Гутман с мужем, ныне покойным Олегом Каганом. Присутствовал еще один очень пожилой музыкант, бывший преподаватель Одесской консерватории. Сначала все вместе рассматривали большой альбом фотографий отца и матери. Там были собраны замечательные снимки. Светик комментировал их. На последней странице фотографий не было. Была надпись, сделанная крупным щедрым почерком Рихтера:
«Расстрелян в Одессе в сентябре 1941 года. Реабилитирован в... году».
Я помню – Светик встал, выключил свет, зажег свечи и вышел в другую комнату.
Послышались звуки «Фауста» Гуно, оперы, которую любил отец... После ужина Светик отвез меня в университет, где я жила. Он был весел, разговорчив. У входа мы сердечно на прощанье поцеловались.
Я помню, после концерта на юге Голландии, в Арнхеме, Рихтер в раздражении срывает с букета целлофановую обертку. Она не поддается. Это еще больше усиливает его недовольство. Мне удается пробраться к нему по винтовым лестницам и темным коридорам. У двери уже собралась толпа, перед ней стоит, опустив глаза, «китаец», то есть индонезиец, и тихо повторяет, что войти нельзя. Но, узнав, меня он пропускает к Рихтеру, потому что «был приказ». Бедный Светик очень огорчен концертом. А мне казалось, что все было так кристально прозрачно и хорошо. В программе был только Бах!
В мае 1991 года он напомнил еще об одном концерте:
«Милая Таня!... Наша короткая встреча после неудачного концерта в Арнхеме была действительно слишком коротка. И поговорить по-настоящему не удалось. Может быть, я появлюсь еще раз в Вашей стране в этом году. Не исключено... Желаю Вам всего самого светлого. А будет ли мне Ваше фото? Жду. Ваш Светик».
И концерт этот действительно состоялся! В воскресенье днем. Зал был переполнен. Свет притушили и объяснили публике, что «маэстро считает, что в полутьме можно лучше углубиться в музыку». Была от него еще одна просьба – поменьше кашлять! Мы сидели в партере и не отрывали глаз от дверей наверху, откуда обычно спускаются солисты. Но вдруг раздались аплодисменты – Рихтер входил из нижней боковой двери. В программе были сонаты Бетховена. Концерт закончился «Аппассионатой». Невероятно! Создалось впечатление, что первые три сонаты игрались для того, чтобы войти в мир бетховенской 23-й сонаты! Я не могла удержаться и сказала Светику это после концерта, когда он спросил меня: «Ну, как?» Он с удовольствием рассмеялся и добавил: – «Значит, вы поняли, что я занимался!»
Я помню – мы стояли уже у рампы, когда Рихтер играл на бис последнюю часть сонаты. Уходя, он окинул глазами стоящих впереди. Я не была уверена, что он узнал нас. С трудом пробиваясь к артистической, я увидела идущего нам навстречу «китайца». По-немецки он пригласил зайти к маэстро. Со мной был букет белых роз для Нины Львовны. А в программе я прочла фрагмент автобиографии Рихтера. Он рассказывает, что совсем не помнит, как прошел его первый настоящий концерт в Одессе. Зато до сих пор не забыл запах преподнесенных ему тогда белых роз. Передавая свой букет Нине Львовне, я с грустью заметила, что розы у нас больше не пахнут. «Что вы, Таня! У них чудесный запах!» – успокоила она меня.
Я помню, очарованная этим исполнением, я написала Светику письмо. Я писала, что утром, перед концертом, я стояла в храме на службе и в который раз оценила, как необходимо перед началом Литургии чтение Часов. Оно уводит от сутолоки жизни и создает возможность восприятия Неизреченного. При чтении Предначинательных псалмов все, что нас объемлет каждодневно, растворяется, и мы можем приложить усилия прикоснуться Иному.
В ответ Светик писал: «Дорогая Таня! Спасибо Вам за такое особенное послание. Я Вам завидую, что Вы можете подыматься над всем тем, что, к сожалению, всех нас заразило и ослабило. Я не имею душевных сил на это – я просто существую, не особенно размышляя, хотя, конечно, понимаю величие Вселенной. Позавчера слушал из Берлина «Парсифаля». Любите ли Вы Вагнера? Я, пожалуй, его больше всех люблю и, к счастью, знаю, можно сказать, с детства. Я, конечно, люблю все, что есть хорошего в музыке (в этом моя всеядность, – естественное качество исполнителя), но мои три кумира в музыке это: № 1 – Вагнер, № 2 – Шопен, № 3 – Дебюсси. Понемногу двигаюсь в направлении Москвы, где буду в конце ноября. Сегодня должен играть в Гамбурге. Сердечно Вас приветствую. Нина Львовна также шлет добрые пожелания. Всегда Ваш Светик. 4/11 [1992]».
Хотелось бы сказать еще о фестивале Рихтера в Туре. В 1993 году праздновалось тридцатилетие фестиваля. Святослав Теофилович очень любил это свое детище и неоднократно сетовал, что я никак не соберусь в Тур:
– «...жаль, что Вы не были в этом году в Туре (7 прекрасных Liederabenda) и вообще туда никогда не приезжаете... 1/9/81...»[Тур].
– «Милая Таня! Получил Вашу традиционную открытку из Перво. Это прекрасно быть всегда верным в отношении людей и мест, но все же хотелось бы Вас там повидать... Всегда Ваш Светик», [окт. 1984]
– «Милая Таня! Как жаль, что вы никогда не приезжаете в Тур. В этом году там было действительно интересно... Спасибо за Ваши весточки, они мне всегда милы... Желаю Вам счастья. Ваш Светик» [июнь 1985, Тивьер].
– «Милая Таня! Спасибо за память! Мы будем очень рады увидеть Вас в Туре и надеемся, что Вам там понравится...» [2/5/71, Москва].
– «Милая Таня! Жалко, очень жалко, что Вы пока все еще не посетили Туренские празднества (а в этом году 20-летие)» [1983, Тур].
– «Здравствуйте, милая Таня! Свободны ли Вы в конце июня? Хочу Вас пригласить на 30-й юбилей Туренских празднеств. Они будут между 18 и 28 июня. Пожалуйста, приезжайте, все Вам будет заказано. И надеюсь, это будет интересно... Ваш Светик» [Май 1993, Вена].
Я помню, как нелегко мне было осуществить эту поездку. Но я уговорила себя поехать хоть на пять дней – два в дороге, три в Туре. И быть на двух концертах Святослава Теофиловича. Фестиваль проходил под названием «Радостная музыка» («Musique Joyeuse») – Сен-Санс, Легар, Шуберт, Гуно, Бизе, Равель, Гершвин...
Я приехала на четвертый день после открытия фестиваля, в понедельник. До первого концерта, где участвовал Рихтер, в моем распоряжении было полтора дня. Мне не терпелось увидеть один из старейших французских городов, который столько лет с благодарностью ожидал и принимал Святослава Теофиловича. Он называл уже мне несколько замечательных храмов города. Я люблю посещать готические церкви не во время служб (они совсем не соответствуют моему религиозному настрою), но когда они пустые. Одно сознание, что много веков подряд сюда приходили люди на встречу с Богом, что они молились среди красоты, созданной христианским духом, все это распологает к мыслям, по словам Светика, «о величии Вселенной» и том, что Господь каждый день не скупится даровать нам просто так.
Я помню старинный собор Святого Жюльена. Он редко бывает открыт. Я вошла через боковую дверь и обомлела не от красоты готических сводов – в храме было почти темно, – а от неожиданной красоты льющихся звуков. Звуков мне очень знакомых и в то же время «не моих». В пустом соборе по-французски звучала запись хора Херувимской песни Бортнянского!
Я помню дерево возле собора Святого Готьена – ливанский кедр трехсотлетнего возраста. Нижние ветви его достигают шести метров! Они бы без подпорок сломались... Ему нельзя было не поклониться! И я почему-то уверена, что с ним не мог не «разговаривать» Светик...
Я помню, как Рихтер играл Сен-Санса с громадным оркестром из Латвии, играл в полное удовольствие, забавляясь, легко, просто... Второй концерт после перерыва – он назвал его «египетский» – был действительно «радостной музыкой», задушевный, изящный, красочный. Рояль почти не затихал и веселился с оркестром. Радостью было смотреть на центральную ложу, где сидела Нина Львовна. Она сияла и аплодировала с энтузиазмом.
Единственным комментарием после концерта у Рихтера было: «Как жарко!» Он был недоволен, что я попала не в тот отель и что не могу остаться на субботу и воскресенье.
Я помню, что на следующий день мне удалось наконец найти ароматные белые розы. С ними я направилась на противоположный берег Луары, на рю Круа- сон. Когда я шла по мосту, на меня дохнул чудесный запах – берег был совершенно желтым от роз! Гостиница занимала большую виллу с прелестным садом и тоже, как говорится, утопала в цветах. Навстречу вышла Нина Львовна и представила меня другим гостям. Но сразу спустился на веранду Светик и пригласил втроем обедать в саду под платаном. Официант принес длинное, в метр, меню, Светик недовольно заметил: «Какая безвкусица!»
За обедом, а он был очень вкусным несмотря на меню, Светик перечислял страны, куда должен был ехать после Тура, – Германия, Финляндия, Норвегия, Польша. Везде только одна программа – «Песни Грига». В Осло должен был состояться концерт в зале, где Григ сам их играл впервые. «Ведь это немного страшно! Песни легкие. И в этом их трудность».
Я помню, что Светик все-таки вернулся к вчерашнему концерту: «Я играл «египетский» концерт плохо, так как все время думал, что жарко и что надо сосредоточиться. А когда так думаешь, все пропадает... И мне жалко, что вы уезжаете, а на закрытие приедет мадам Помпиду. Она такая простая, такая хорошая, такая, как должна быть. А Шварцкопф не приедет. В программе написано, что я ей аккомпанировал. Это не так. Был случай, но концерт не состоялся. Я хотел играть». – «Ну, нет, Слава, не вы, а она этого хотела», – заметила Нина Львовна.
Я помню, как не по-западному Светик ответил на вопрос, сколько ему лет: «Восемьдесят!» Нина Львовна сразу отреагировала: «Неправда, вам семьдесят восемь!» – «Ну, это мелочи. Лучше сказать – сто! Тогда все будут делать комплименты!»
Я увидела в петличке у Светика значок и спросила, что это за орден. – «Так, какой-то французский». Нина Львовна: «Орден Почетного Легиона! Слава очень не любит всего этого. Ему присудили почетный докторат во Фрейбурге. Он не захотел туда ехать. Ни за что! Но ведь там же работал Швейцер! «Как вы можете отказываться?» Согласился... А в мае девяносто второго ему торжественно вручили в Оксфорде почетного доктора. Сперва позвонила подруга из Англии и спросила размер головы и рост. Я сказала: 184. Такой рост у него был, по крайней мере. Все это для церемонии. Но Слава опять не захотел. И опять – ведь это же Оксфорд! И вот мы, наконец, сидим в круглой зале колледжа. Открывается дверь, выходит педель и за ним Слава в черном берете и белой с розовым мантии. Он подходит к ректору, и тот начинает говорить длинную речь. Вроде того, зачем вы еще в вашем возрасте играете? Надо на покой, отдохнуть! – и все в этом роде. А Слава стоит грустный-грустный и все это выслушивает». – «Ну вы подумайте, – прибавляет Светик, – все время у англичан эти «хау ду ю ду»! Я, как услышу, сразу отвечаю: «бэд!» Не лежит у меня к ним душа».
Разговор перешел на тему о старости. «А вот Нина говорит, что со старостью люди облагораживаются. Но конечно, лишь те, которые жили духовной жизнью...» Я услышала, что и Митя Дорлиак уже вышел на пенсию. «Вот бы и мне», – сказал Светик. – «Что вы говорите, Слава? – сказала Нина Львовна. Я каждый месяц получаю вашу пенсию!»
Я помню, как под впечатлением проведенных часов с Ниной Львовной и Светиком я спешила к себе в отель, чтобы записать по возможности все, о чем шел разговор в саду их гостиницы в Туре. Там птицы заливались на все голоса, и это дало повод Нине Львовне рассказать о даче на Николиной горе.
Н. Л. – Вот я уже посадила там картофель, помидоры, а для вас, Слава, зеленый горошек.
С. Т. – О, я его очень люблю!
Я – Когда же вы отдыхаете, Светик?
С. Т. – Я не могу отдыхать. Если я долго не выступаю, я не могу снова начать. Вот в этом году я четыре месяца не играл!
Н. Л. – Но вы были больны, Слава.
С. Т. – Ну да, но я не играл и с трудом входил.
Я – Вы не скучаете по дому?
С. Т. (смеясь) – Абсолютно! Я чувствую себя дома здесь, в Париже, в Вене и даже в Токио! Ведь я очень подолгу бываю за границей.
Я – И вы не чувствуете, что вам чего-то не хватает? ’
С. Т. – Нет! Потому что в Москве тоже всегда чего- то не хватает... Но нет, я Москву люблю!
Н. Л. – Слава, в этом году вы были в Москве две недели!
С. Т. – Да, это так...
Я помню – вдруг он меня спросил: «Таня, вы помните нашу первую встречу?» – «Не помню...» – «А у меня память великолепная. Я помню абсолютно все! Но знаете, Таня, я начинаю плохо слышать собеседника. И иногда даже мне кажется, что я беру не ту ноту, но я играю правильно. Ведь это ужасно! Неужели не помните нашу первую встречу? Мы – Верочка, Арнгильд и я с вами бросали помидорами в парочки на берегу». – «Неужели вы этим занимались?!» – перебивает Нина Львовна. – «Да! А еще интереснее было у Нейгауза. Его сыновья и дочка и я бросали из окна кухни через школьный двор тарелки. Могли убить кого-нибудь. В этот момент в кухню вошла Милица. И что вы думаете? Так могла отреагировать только русская женщина. Она сказала: «Еще одну – и это будет последняя!»
С. Т. – Однажды Милица взяла корзинку и сказала: «Иду на охоту. К Гарри придут гости иностранцы». Она вернулась с корзиной, наполненной всякими консервами. Нейгауз вытряхнул все их на пол и построил большую пирамиду. Потом (он бывал невероятно вспыльчив) все это зафутболил ногой. «Разве можно кормить консервами?!» На это Милица спокойно сказала: «Не волнуйтесь, он прекрасно съест все это сам».
Н. Л. – Таня, никто никогда не писал о Славе так, как Нейгауз. Он говорит о нем в каждом своем письме.
c. Т. – Таня, вот Нина осуждает. Я не знаю, как вы на это смотрите. Но я вижу что-то гениальное в бое быков! Что-то магическое. Я ходил смотреть два раза. Первый раз было неинтересно. Во второй было два тореадора. Один был какой-то сумасшедший. Он делал страшно опасные вещи. Ставил себя в страшно рискованные позиции. Продолжал действовать так и после того, как бык взял его на рога, подбросил и ранил. Толпа выла, чтобы он был поосторожнее. Однако, при всей своей храбрости, «уха» он не получил... А бык был громадный, как локомотив.
Второй – молодой и очень красивый, казалось, с легкостью танцевал балет. Все было у него по правилам. Все было стройно. Он получил награду – «ухо» и бросил его через всю арену в ложу мэра. И тот поймал его! Невероятно! Но мне понравился больше первый... Почему надо быть против боя быков? Ведь бык становится вровень с человеком. У них одинаковые шансы! И если его действительно убьют, то ведь такая смерть лучше, чем на бойне!»
Я помню, очень помню, как грустно было уезжать из Тура. Через месяц пришло письмо на двух открытках: «Милая Таня!.. Я так рад был нашей короткой встрече в Туре... Хорошо, что Вы посмотрели это мое место. Считаю, что «празднества» в этом году были действительно удачными. Сейчас я в Москве, где бушуют грозы почти каждый день и где с этого года появился еще один фестиваль, касающийся города Таруса. В Зале имени Чайковского мы играли с Лизой Леонской дуэтный вечер 26 июля, а снаружи лил дождь и гремел гром.
В программе сонаты Моцарта со вторым роялем, написанным Григом, – прекрасное сочинение, очень понравившееся москвичам. Сегодня в музее имени Пушкина второй концерт, и я буду аккомпанировать певице Галине Писаренко песни Грига. Послезавтра же – концерт сольный в Тарусе (125 километров на юг) «лирические пьесы» Грига... 7-го я отправлюсь в Санкт-Петербург, а потом предстоит Финляндия, Швеция, Норвегия и остров Гельголанд. Я шлю Вам мои лучшие пожелания и приветствую Вашу семью. Всегда Ваш Светик. 28/7/[1993]».
И еще. «Дорогая Таня! С опозданием благодарю Вас за письмо от 31/12/93. Я очень тронут его содержанием, Вы особенно пишете. Сейчас я в Пинненберге после перенесенного очередного гриппа, я останусь в Европе до августа. Начало года провел в концертных поездках – Франция, Испания, Португалия, Австрия... [дальше на другой открытке] А это Греция... У меня эта «охота к перемене мест» не проходит и для меня она вовсе не крест. В последнее время много играю Моцарта (его концерты) и, может быть, близок к тому, чтобы найти ключ к его музыке... Ваш Светик. 17/4/[94]».
Я помню – тепло и радостно было узнать, что какие-то мои письма Святослав Теофилович брал с собой в дальние страны. «Милая Таня! Перечитывал Ваше письмо, которое теперь передо мной и в Японии (около этого моста; город Шимоносеки). Спасибо Вам. Спасибо и за Троицу Рублева. Вы спрашиваете о фестивале в Тарусе. Конечно, все можно будет устроить. Он будет в последней декаде июля и первой августа. Рад буду повидать Вас. Сегодня я сыграл 20-й концерт этого года. Ваш Светик. 28/III 1994].»
Боже мой, как много Рихтер путешествовал, как невероятно много он играл! И как редко обстоятельства складывались так, что я могла попасть на его концерт! «Милая Таня!... Я сейчас на месяц в Париж... затем лечу в Японию до апреля. В апреле снова Европа: Англия, Франция, Германия... Вот так и проходит моя жизнь и я к ней привык, к такой... Хотел бы повидать Вас, может быть, выберусь в Голландию... Светик [8/1/79]».
«Милая Таня! После нашей встречи в Арнхеме я побывал в России, а потом вернулся и непрерывно концертировал так что число концертов этого года дошло до 88. 16/11/91».
«Милая Таня! Я давно не писал Вам и я не поблагодарил Вас за Ваше такое хорошее письмо. В 1991 году я дал 95 концертов и хорошо себя чувствовал...» [25/3/92]
Я помню – наша последняя встреча была в Туре. После обеда Светик и Нина Львовна проводили меня до моста через Луару. Мы простились, поцеловались. Потом Светик поцеловал и задержал в своих руках мою руку... «Если я не увижу вас, всего вам хорошего... И молитесь...» – прибавил он как-то неловко, как в молодости.
Я помню, как трепетно я ждала в 1996 году привычное поздравление к Рождеству. Оно не пришло. А в апреле я получила от Нины Львовны такое грустное, грустное письмо: «Дорогая Таня, мы в Париже, в больнице – третий раз с июня месяца. Слава упал и сломал коленную чашечку; второй раз из-за слабости сердца. Он очень слабый, ходит с трудом – поэтому опять здесь четвертый день. 1 апреля 95-го был его последний концерт: редко берет ноты и смотрит, очень редко говорит о возможности записать пластинки и совсем отрицает возможность давать концерты. Грустно, Таня, мучительно наблюдать его страдания физические и душевные. Помолитесь за него, Таня. Я молюсь, но, видно, мои молитвы не доходят. Попросите Вашего мужа помолиться о Славочке. Всего доброго, Таня. Поклон Вашему мужу, Нина Дорлиак. 28/4 [96]».
Так и осталось – Святослав – Славочка – Светик.
Татьяна ФООГД-СТОЯНОВА
ноябрь 1997 Амстердам

Валентина Николаевна Чемберджи
"Культура" №13 (7173) 8 - 14 апреля 1999
"Охраняется человечеством"
Заметки-размышления о фильме Брюно Монсенжана «Рихтер. Непокоренный» и личности великого пианиста
Когда не стало Рихтера, чувство возникшей пустоты можно было сравнить только с недоуменной осиротелостью людей после ухода из жизни Льва Толстого. Ушел не только великий пианист, гениальный музыкант, легенда ХХ века - ушел Учитель. Уход такого человека воспринимается как нарушение законов природы. В реальности зияет пустота.
Пока жил Святослав Теофилович, незыблемы были точки отсчета на шкале жизненных и музыкальных ценностей. В двух шагах подстерегало чувство стыда, которого страшились даже те, кто не так уж высоко ценил моральные установления, но, зная, что они все же существуют, в душе побаивались не считаться с ними. Но уж для тех, кто никогда о них не забывал, словно бездна разверзлась.
Ведь едва ли не каждый шаг невольно поверялся тем, что сказал бы или подумал Маэстро. И что удивительно: при полной оригинальности, неожиданности и неповторимости, иногда жесткой, его суждения были просты, и мы знали их, знали главное. И еще: то, что казалось чуть ли не парадоксом, капризом, то, что выходило за рамки разумных и привычных представлений, в дальнейшем оказывалось истиной. Рихтер всегда был прав.
Слова стали затасканными, их употребляют легко и походя, поэтому если я скажу, что главной ценностью и смыслом жизни Святослава Рихтера было искусство и служение ему одному, то никто не споткнется об эту фразу. Между тем это было именно так. Однажды в личном разговоре Святослав Теофилович сгоряча сказал, что убил бы плеснувшего серной кислотой в "Данаю" Рембрандта или убийцу Пазолини, потому что они совершили преступления против искусства.
Рихтер никогда и ни в чем не погрешил против музыки, он поставил для себя планку на недосягаемую высоту и ни разу не опустил ее. Он не сыграл ни одного сочинения, которого требовали бы мода или конъюнктура, он не сделал ни одного движения в искусстве, которое не было бы продиктовано самим искусством. Трудно представить себе высоту такого отношения к музыке, выбору сочинений, составлению программы сольного или камерного концертов или фестивалей в Туре, Москве, Тарусе.
Его заповедями были серьезность и творческое отношение ко всему, будь то ошарашивающее исполнение подчас хорошо знакомого сочинения, или венский букет и табуретка под него во время "Декабрьских вечеров" ("Вы читали Жан-Поля? Какие цветы входят в венский букет? Где мы возьмем в музее табуретку?"), или ответы на бесчисленные письма. Кстати, не было среди них ни одного, на которое Святослав Теофилович рано или поздно не ответил бы.
Любое творческое усилие или благой порыв человека заслуживали уважения. Лишь бы не было халтуры. В слове "халтура" таилось самое большое преступление, которое не прощалось никому. Оправдания не принимались. Помню, в тайге по дороге в Ачинск тряслись в машине уже хороших шесть часов. Святослав Теофилович спросил: "Сколько километров до Ачинска?" - "Не знаю", - ответил сопровождающий из местной филармонии. "Вот видите?! Халтура!".
Если по отношению к коллегам неприятие халтуры выражалось в накале и количестве репетиций (он мало говорил во время репетиций, орлиным взором проникал в самую суть произведения и двумя-тремя точнейшими словами направлял в нужное русло работу), в доведении до конца своих грандиозных замыслов (стоит только вспомнить "Трио" Чайковского с О.Каганом и Н.Гутман или альтовую Сонату Шостаковича с Ю.Башметом), от друзей требовалось без халтуры смотреть фильм, слушать музыку, то есть прийти за полчаса, неторопливо занять места, настроиться и при выключенном телефоне всем существом предаться просмотру фильма или прослушиванию музыки вместе с самым поглощенным зрителем или слушателем и в то же время под его зорким взглядом. Не упустить ни одной детали. Учились, что нельзя не досмотреть плохой фильм, уйти с плохого спектакля. Это несерьезно, неуважение, халтура.
Святослава Теофиловича нисколько не занимало качество аудиовидеотехники (оно было совсем скромное), он был равнодушен к комфорту вообще. Но вот сила и глубина впечатления от произведений искусства! Вот что главное. "Как?! Вы могли еще что-то смотреть в тот же день? Но это же невозможно".
Сферы нравственного и интеллектуального влияния Святослава Рихтера - это весь мир. Многие из самых выдающихся представителей искусства ХХ века жадно учились у Рихтера музыке, отношению к ней, бесстрашному полету фантазии, вере в невероятное, в его возможность. И в то же время неукоснительной точности следования замыслу автора.
При постановке оперы Бриттена "Поворот винта" (режиссер- постановщик Святослав Рихтер) никто не мог себе представить, как можно сделать, чтобы вся сцена закрывалась бы мириадами летящих светлячков. Все сказали, что это абсолютно невозможно. И, конечно же, светлячки были. С помощью световых эффектов на особом занавесе летели и летели светлячки.
У Святослава Теофиловича было много друзей среди молодых музыкантов. Среди самых любимых был Олег Каган. Маэстро много играл с ним, строго "болел" за него. Сраженный роковой болезнью, Олег играл свой последний концерт за день до смерти. Юрий Башмет вынес его на сцену на руках - Олег уже не мог ходить. Но играл. Играл гениально: смерть отступила в эти мгновения перед духом артиста. И Рихтер, с молодости воспитавший в себе философское отношение к смерти ("В восемнадцать лет я понял, что все умрут, и похоронил всех"), не мог пережить смерти Олега. Он избегал говорить о нем, потому что не хотел употреблять прошедшего времени. Глубокие, мощные чувства оказались сильнее философии.
Несколько месяцев спустя Святослав Теофилович, Виктор Зеленин и я неспешно шли к нам домой по переулкам, примыкающим к Большой Бронной, - и вдруг у какого-то палисадника Святослав Теофилович остановился и сказал: "Вот скамейка, на которой меня ждет Олег". Это не была оговорка.
Круг духовных наследников Святослава Рихтера очень широк. Они слушали его, они играли с ним в ансамблях, в оркестрах, они пели в его сопровождении, читали вслух, ходили в музеи, наслаждались природой, веселыми играми, шарадами. Они несут в своем творчестве и жизни духовные откровения, бывшие сущностью чуть ли не каждого мига пребывания с великим Маэстро.
И вот случилось чудо. На время, на те два с половиной часа, которые длится его фильм, Брюно Монсенжан возвращает нам Рихтера.
"Рихтер. Непокоренный" - под таким названием вышел фильм Брюно Монсенжана во Франции и Германии. "Рихтер. Загадка" - в Англии и Испании.
Первые кадры: по заснеженным московским улицам в ушанке набекрень, в длинном пальто идет молодой Рихтер своей гибкой, пластичной, незабываемой походкой. Красивый и загадочный. Но как же больно сожмется сердце у знавших и любивших Маэстро, в чьих сердцах ничуть не потускнел образ Рихтера-гиганта, при виде старца, стоящего на пороге другого мира.
Он сознает это и в своем отрешенном от суеты рассказе - исповеди- признании - спокоен и велик. Он говорит без боли, с обезоруживающей честностью. Он печален, он уже не с нами, хотя вся неповторимость этой титанической фигуры не только не поблекла, но стала еще более узнаваема и выпукла. Кто он? Миф? Гениальный пианист? Великий музыкант? Заброшенный в наш мир странник, ищущий совершенства? Артист, исторгавший слезы и приносивший очищение? Маг? "Непокоренный"? Да. "Загадка"? Да. Как явление природы.
В последние годы жизни он много времени провел в Европе, в основном во Франции. Его много раз оперировали, лечили, больницы сменяли друг друга. Он худел, слабел, редко выходил из дома, почти не играл. И это, видимо, предрешило исход: жизнь потеряла для него смысл.
На протяжении всей жизни Святослав Теофилович вел дневник (его страницы мелькнут в фильме), где точно и образно записывал главные события своей жизни, в основном музыкальной. Память же его была настолько феноменальна, что и без помощи дневника он мог с точностью ответить на вопрос, что происходило такого-то числа такого- то года. Это называлось "играть в числа". В эти последние грустные годы Брюно Монсенжан долгими часами беседовал с Рихтером, читавшим ему свой дневник, вспоминавшим отдельные эпизоды своей жизни. Монсенжан записывал текст, но без камеры. Уж как ему удалось уговорить Маэстро сесть перед камерой - об этом может рассказать только он сам. В книжечке, приложенной к кассете, Брюно Монсенжан сознается, что был момент, когда он уже собирался снимать фильм только с голосом. Но вот сумел уговорить.
В последний раз я видела Святослава Теофиловича за полтора месяца до его смерти на фестивале в Гранж де Меле, под Туром. Неожиданно для всех (неожиданность - это всегда было очень важно для Рихтера) он впервые за три года появился, точнее, явился на концерте.
В огромном зале было уже почти совсем темно, за секунды до начала концерта вдруг прошелестело его имя, я повернула голову и увидела его лицо, профиль. Оно мало изменилось, но - как удар: оно не на той высоте, не на той, на которой мы привыкли его видеть. Наверное, ему помогают идти... Это было 21 июня 1997 года на фестивале, посвященном творчеству Дмитрия Шостаковича. На концерте, программа которого была составлена Рихтером, прозвучала Соната Сергея Прокофьева для скрипки и фортепиано, четыре Прелюдии и Фуги Шостаковича и его вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии". (Исполнители: Елена Брылева, Алексей Мартынов, Александр Мельников, Ирина Ромишевская и Виктор Третьяков). Святослав Теофилович пришел и на другой день, на заключительный концерт фестиваля, 22 июня. В программе были Соната П.Чайковского и Трио Д.Шостаковича. Исполнители: Элисо Вирсаладзе, Наталия Гутман и Виктор Третьяков. Этот концерт стал последним, на котором присутствовал Святослав Теофилович.
В начале июля Нина Львовна Дорлиак, не оставлявшая Святослава Теофиловича в годы болезни ни на один день, отвезла его на дачу, на Николину Гору. Он даже начал там понемногу заниматься. Его окружали друзья: Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе, Наталия Гутман, близкие люди не покидали его. Он прожил несколько счастливых недель и первого августа 1997 года скончался. Его сердце уже не существовало как материя.
Четвертого августа с ним прощались в Музее имени А.С.Пушкина, у Ирины Александровны Антоновой, доверившей Рихтеру для ставшего знаменитым на весь мир фестиваля "Декабрьские вечера" самое дорогое - свой музей. Впускать толпы слушателей, зорко охраняя каждый квадратный сантиметр помещения, - это, наверное, под силу только И.А.Антоновой.
И вот тогда-то, именно четвертого августа 1997 года, после отпевания и похорон на Новодевичьем кладбище, Брюно Монсенжан впервые показал нам, тогда еще в рабочем варианте, свой фильм. В тот день любая тень ложного пафоса, любая фальшивая нота показались бы эдакой какофонией, но их не было, и фильм сразу предстал как откровение, как интимный рассказ и общечеловеческая трагедия. Был создан неискаженный облик Маэстро. Человека, отличного от всех. Не такого, как все.
Брюно Монсенжан - известный автор выдающихся фильмов о Гленне Гульде, о Давиде Ойстрахе, где проявил несравненное мастерство и талант в раскрытии образов великих музыкантов во всей их неповторимости, которая одна только и свидетельствует о гениальности. Сосредоточенный рассказ о музыкальных открытиях Гленна Гульда, о его Бахе, о гениальной скрипке Ойстраха, феноменального скрипача и воплощения честности в искусстве. Но фильм о Рихтере - несколько иного жанра, он не только о музыке, он о необъятной личности, о времени, о человеке. Здесь сошлось слишком многое - сам герой и преклонение перед ним автора.
Он считал Рихтера сверхчеловеком и создал о нем фильм - грандиозную фреску о жизни и смерти, хвалу художнику, искусству, музыке и в то же время фильм, в котором Рихтер вдруг (для всех знавших его именно "вдруг"), с экрана, совершенно откровенно рассказывает о самой большой трагедии своей жизни, об оставившей его матери, о расстреле отца. Об этом не смели говорить при его жизни, да и мало кто знал. Он без оглядки говорит о самых великих своих современниках. Об Ойстрахе: "Мне кажется, что это самый лучший скрипач вообще". Рихтер настолько любил Ойстраха, что, когда ему показалось, что в некоем немецком городе Ойстраха обидели, он перестал туда ездить. А Ойстрах-то, оказывается, давно все простил и играл там.
Зрители услышат из уст Рихтера суждения о Прокофьеве, Шостаковиче, Караяне, Ростроповиче, о молодых коллегах и друзьях. Узнают, почему Рихтер уехал из Одессы в Москву, о Генрихе Густавовиче Нейгаузе, внешне похожем на его отца, о том, как ему пришлось играть на похоронах Сталина. Этот рассказ (на фоне документальной хроники) так характерен для Рихтера. О чем он говорит? Уж, конечно, не о великом вожде. Он был настолько далек от политики, что даже этот вождь не волновал его, не говоря о последующих. Он говорит о пианино в оркестровой яме, на котором пришлось играть, о кощунстве так неожиданно прервать разработку в Шестой симфонии Чайковского грубыми звуками духового оркестра, игравшего Траурный марш Шопена.
И тем не менее много раз поймаешь себя на мысли о том, как точно характеризует Рихтер наше время. Отвращение, вызванное у него суетой сподвижников только что почившего вождя. Рихтер точен в деталях, а именно детали создают образ времени.
Зрителям предстоит услышать запредельные, захватывающие дух записи. Первая же, когда совсем уже слабый Рихтер говорит: "Ну, давайте послушаем Прокофьева". И вдруг, как ураган, сметающий на своем пути все препоны, Рихтер в пору своего расцвета, могучая спина, мощь, страсть. Пятый концерт Прокофьева. И тут уж я останавливаюсь. Увидят и услышат. Скажу только, что все записи, звучащие в фильме, показывают бессилие слов перед музыкой, поражают, сваливают с ног. Среди них есть и неизвестные нам, восстановленные, выкопанные, добытые Брюно Монсенжаном, рассыпанные до того по белу свету, по разным странам и материкам.
Необыкновенно хороша в фильме Нина Львовна Дорлиак - спутница жизни Маэстро. Кипевшие на протяжении всего их романа страсти, как всякая очень глубокая реальность, вдруг вспыхивают в фильме, прорываются на экран в извечном споре... о занятиях. Святослав Теофилович говорит: "Три часа я играю". На что Нина Львовна возражает: "Когда он был молодой, он играл и 10, и 12 часов". Святослав Теофилович: "Что за глупости?! Никогда двенадцати не было!" Не случайно промелькнуло слово "роман". Не терпел Рихтер обыденности, бездарности, "малоспособности", как он выражался. И Нина Львовна, с ее необыкновенной живостью, с шекспировским темпераментом, до последних своих дней на высоких каблучках, в крепдешине, худенькая, легкая. Царица бала любого столетия. И к сказанному о ней как о певице Святослав Теофилович добавляет: "Она же выглядела, как принцесса".
"Я себе не нравлюсь", - говорит Святослав Теофилович в конце фильма и закрывает лицо руками. Конец.
Да, он редко нравился себе. Помню, я как-то раз спросила (шутя, конечно): "Но когда-нибудь Вы все же играли удачно?" На что последовал ответ: "Ну да, конечно. Когда-то в Одессе у меня все вышло".
Великие люди волнуются, волновался перед выходом на сцену и Рихтер. Как очень большой артист, боялся не выполнить все, что считал нужным, выразить все, что хотел композитор. Нес на себе бремя ответственности. Мы всегда слышали Святослава Рихтера - гения. Но у него были свои мерки.
И вот, пройдя весь крестный путь служения искусству, Рихтер говорит: "Я себе не нравлюсь".
Он хотел, чтобы у него "все получалась" - по его меркам.
Самодовольства в искусстве не мог себе даже представить, прощался, расставался с довольными собой артистами, не верил в них, не мог относиться к ним всерьез.
Начинается фильм, и, предваряя его, звучит в исполнении Маэстро последняя Соната Шуберта, и слушателя буквально пронизывает ощущение: вот оно! То единственное, что могло бы начать и завершить рассказ о жизни Святослава Рихтера.
Пытаешься проникнуть в его тайну, и много-много раз приходит на ум одно и то же слово: вера! Вера в каждую ноту, написанную композитором, в слово поэта, штрих живописца. Серьезная и детская вера. Великий художник и в то же время дитя, непосредственный, откровенный, отразился в зеркале, искусно поднесенном восхищенным Брюно Монсенжаном. Создан фильм - "патримониум мунди", достояние человечества. Фильм снят не в России, но он перешел национальные границы. Фильм-памятник. Охраняется человечеством.
Опубликовано в газете "Культура" №13 (7173) 8 - 14 апреля 1999

Наталья Дмитриевна Журавлева
Записала Наталья Бойко. Опубликовано в газете «Вечерний клуб», 31.07.1999
Мэтр
Наталья Дмитриевна Журавлева, как и обещала, рассказывает нам сегодня о Рихтере. Одним поколением старше была сдружившая их московская интеллектуальная элита. Поэт Андрей Вознесенский в своем эссе «Мне четырнадцать лет», описывая традиционное собрание на даче Б. Л. Пастернака в Переделкине, упоминает как раз отца Журавлевой Дмитрия Николаевича: «великий чтец и камертон староарбатской элиты». Здесь же «сухим сиянием ума щурился крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз» (учитель Рихтера)... И вот, наконец, — «рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки». Примерно в это время, в первые послевоенные годы, и произошло знакомство юной Натальи Журавлевой с «дядей Славой» Рихтером. Ничем не омраченная дружба продлилась более полувека.
Панибратство на «вы»
Называть его Мэтром - это от меня пошло. Был 66-й год, мы репетировали с Анатолием Васильевичем Эфросом булгаковского «Мольера» в Театре Ленинского комсомола. А там все к Мольеру обращаются: «Мэтр, мэтр». И я как-то после репетиции пришла к Святославу Теофиловичу, и говорю: «Здравствуйте, Мэтр!..» Потом все стали его так звать. Очень удобно. Можно было даже «Мэтрчик» его называть. А с детства я всегда звала его «дядя Слава». Но не при чужих людях.
Меня же он всегда называл «Тутик» - это мое детское домашнее имя. Если же он обращался ко мне «Наташа» - я сразу понимала, что он сердится, и просила прощения даже еще не зная, за что. Он мне говорил «вы», потому что я не могла говорить ему «ты», а у хорошо воспитанных людей не принято обращаться на «ты» к тем, кто с ними на «вы», пусть они даже и моложе на 23 года - как я Святослава Теофиловича.
У меня еще были разные смешные прозвища, которые мне придумывал Святослав Теофилович. Например, Соня. Почему? Из «Дяди Вани»! В 70-м году он возвращался с гастролей из Японии, и я полетела к нему в Хабаровск. И всю обратную дорогу ухаживала за ним: кормила, смотрела, чтоб рубашки чистые были, гладила их. Он и говорит: «Вы за мной ходите, как Соня за дядей Ваней». И потом, в письмах, обращался - «Соня». А подписывался - «Ваш дядя Ваня». Или еще так, например, говорил: «Ну что, Соня, когда мы увидим небо в алмазах»?
Когда я стала помогать ему разбирать архив и отвечать на письма, у меня появилась кличка «Юдифь Алексеевна Водкина-Шлагбаум». Почему Юдифь? Ну вроде как красиво... Алексеевна - потому что в 66-м году родился мой племянник Алеша. Водкина - потому что выпить любила, не как пьяница, конечно, но все-таки. А Шлагбаум - просто так, для баловства, для веселья. Придумщик он был. Он разрешал мне вести себя довольно свободно, потому что не терпел жеманства, раболепства. Но и сам чувствовал себя со мной свободно. Мама моя даже возмущалась: «Как ты себя ведешь со Славой?!! Что за панибратство!» - «Ма-ам, но это же панибратство, которое он разрешает».
Простил
Не терпел халтуры - это было его ругательное слово. Если хотел выразить свое недовольство по отношению к чему-либо, называл это «халтурой». Выражал своего рода брезгливость. Я помню, он играл на панихиде по Стасику Нейгаузу и быстро ушел: не терпел гражданских панихид! И по себе запретил устраивать. Много раз повторял и Нине Львовне, и мне: «Если вы меня не послушаетесь, я вам буду являться». Он тогда с панихиды ушел домой, а я мучалась: как он там один? Прихожу к нему, посидели немножко. И я спрашиваю - просто чтобы что-то сказать:
- «Дядь Слав, вы на панихиде Шопена играли?»
- «Де!-Бю!-Сси!»
Я вся сжалась: все, думаю, этого он мне никогда не простит. А он после долгой паузы: «Только ВЫ можете спутать Шопена и Дебюсси!» Но простил...
Москва стоглавая
В Страстную пятницу мы обычно слушали баховские «Страсти по Матфею» в записи. Тяжелые зеленые шторы задернуты; никаких украшений, цветов, притушенный свет - ну, Страстная пятница же. А в Страстную субботу вечером всегда ездили или пешком шли в церковь. Крестный ход тогда был запрещен почти везде. Мы ходили к церкви в Брюсовом переулке, дожидались, пока из окошка доносилось «Христос воскресе!», потом уходили.
А в Коломенском был крестный ход. Однажды Святослав Теофилович всех нас туда повез. Помню, была и Елена Сергеевна Булгакова, «Маргарита», — он всегда ее только так называл, прямо так к ней и обращался. Очень ею восхищался. Так вот, в Коломенском - высокая-высокая лестница к храму. И когда начался крестный ход - белые платки, все со свечками - папа мой весь затрясся: «Смотри, смотри - «Хованщина», «Хованщина»»!
Я несколько раз гуляла со Святославом Теофиловичем - ну, это, конечно, адов был труд. Часов по шесть-семь гуляли - так он любил пешком ходить. Я все смеялась: «Мэтр, я иду уже не ногами, а только любящим сердцем!»
Он потрясающе знал всю Москву, очень любил ее церкви. Однажды показал церковь на Таганке, за Котельнической высоткой— ту, у которой в солженицынском «Круге первом» сидит ночью гэбэшник, помните? Любил маленькую белую церковь на Трифоновке; на Преображенке, на горочке - слева, если ехать из центра.
Папа рассказывал, как однажды на Пасху, в алтаре храма Святого Николая в Вешняках, один старенький священник, служивший среди других батюшек, все путался. И на него шипели потихоньку. А когда служба закончилась и стали подходить под благословение, Святослав Теофилович первым подошел к этому старичку. Он не выносил унижения - сразу начинал, наоборот, человека почитать
Домашний вернисаж
Вкус у него был высочайший. Живопись любил и знал потрясающе. Много картин в музеях никогда не смотрел. Пять - это максимум. А иногда - одну. Каждый раз выбирал, что именно будет смотреть. Вот, например, мы были в Вене.
- «Завтра пойдем в музей, в ваш зал».
- «Почему в «мой»»?
- «Угадайте»!
И вот мы в этом грандиозном музее; я знаю по книгам, что в нем и Рафаэль, и Тициан, и Рембрандт, и...
- «Тутик, опустите глаза! Не смотрите по сторонам! Не отвлекайтесь»! Держит за руку, ведет. Я не сопротивляюсь, гляжу только в пол. Наконец, останавливаемся.
- «Ну, смотрите»! Я поднимаю голову - Брейгель! И я понимаю, почему зал - «мой». Я ведь читаю со сцены Цветаеву, а у нас дома стоит открытка в рамке - репродукция с брейгелевского «Рождества Христова» - подарок папе от Марины Ивановны с надписью внизу: «Мое место и век. Дмитрию Николаевичу Журавлеву». Мы тогда посмотрели только Брейгеля. Долго смотрели. Потом Мэтр сказал: «Давайте выбирать, кто бы какую картину себе взял». Я выбрала «Несение Креста» - обожаю ее. А он сначала «Вавилонскую башню», а потом: «Нет, я, пожалуй, тоже «Несение Креста».
Когда в Москву привезли Мане, он меня позвал на выставку. Ходим врозь. Встретились у какой-то картины. Он начал мне тихонько высказывать свое впечатление, и вдруг: «Ой, простите, я вам, наверное, мешаю!» Боже, это он-то мне мешает...
А какие выставки он делал у себя дома! Например, подписных офортов Пикассо, которые сам художник ему и подарил на своем семидесятилетии.
А выставки Фалька устраивал, когда это имя еще и называть нельзя было. Дивные. Сам развешивал картины. Была выставка Шухаева (они очень дружили). Елены Ахвледиани. Кето Магалашвили. Димы Краснопевцева - две выставки. Диму в то время у нас знал лишь узкий-узкий круг ценителей. Потом, когда у него уже официальные выставки начались, Дима гордо говорил: «Да не нужны мне никакие выставки. Мои самые лучшие уже были. У Славы».
Для многих эти выставки становились открытием художников. Можно было приводить своих знакомых. Чем больше было народу - тем больше он радовался. Он и сам писал - пастелью. Много и, по-моему, очень хорошо. Но никогда с натуры. Только по памяти.
Оперные собрания
Какие бывали слушанья опер! Боже мой! В записи, конечно, но как все тщательно было подготовлено! Гостей очень обдуманно приглашали - именно тех, кому интересно, кому, как говорится, в коня корм (Рихтеровское выражение). Кто знал ноты - тем давали клавиры и партитуры. И еще Мэтр придумал одну вещь, чтоб легче было следить за содержанием: на аналойчике таком выставлял одну за другой заставки - белые листы бумаги, на которых он заранее крупно-крупно писал, что в данный момент происходит на сцене. А само либретто читалось вслух. Он просил медленно, внятно читать. «Чтоб запомнилось». У нас даже условие было: если я вдруг затороплюсь (а почти всегда я читала), Мэтр рукой себя по коленке начинал слегка, медленно похлопывать - и я сразу спохватывалась.
Самые разные оперы слушали. Моцартовского «Дон Жуана» и вагнеровского «Летучего голландца» с Фишером-Дискау, «Манон Леско» Пуччини с Марией Каллас, «Кавалера роз» Рихарда Штрауса. Самое последнее, что мы вот так слушали - все вагнеровское «Кольцо» под управлением Фуртвенгаера. И новой музыки много слушали - не в смысле модерной, а для нас новой. Например, Бриттена многие впервые так услышали - и «Поворот винта», и «Питера Грай-мса», и «Альберта Херринга». Или оперу Яначека «Катя Кабанова» — это по «Грозе» Островского. Невероятно интересно!
Волшебные горы
Я всегда получала от него то, что я называю подарками. Вот, например, Томас Манн - это мне от него подарок. И Платонов, и Стерн, и «Зибенкэз» Жана Поля Рихтера. Причем он ничего никогда не навязывал - просто начинал взахлеб рассказывать, а интонация такая: как, мол, вы этого не знаете???
Однажды в разговоре о Томасе Манне промелькнуло название «Волшебная гора».
- «Вы читали»? А я наглая девица была:
- «Да, читала. Это новелла, кажется...»
- «Что значит - новелла?! Как вам не стыдно!»
Всё! Вечером я уже читаю «Волшебную гору». Это был сказочный подарок.
А вот Фолкнера он совсем не знал - тут я смогла немножко отдарить. Ему очень понравились «Шум и ярость» и «Осквернитель праха». Однажды попросил: «Принесите мне «По ком звонит колокол» (я ему все уши прожужжала). Прочел: «Нет...» Я ужасно огорчилась за Хемингуэя.
У него были свои пристрастия: Чехов - «Поцелуй», «Холодная кровь», «Страх». Немногие даже помнят эти рассказы, а он их очень любил. Пьесы все, но особенно «Три сестры». Гоголя о-бо-жал! Толстого не очень любил, особенно «Воскресение». Пушкиным восхищался безмерно, всем, и прозой тоже. Боялся «Пиковой дамы»: «О, это опасная вещь!» Ну и, конечно, Пруст - он был так счастлив, когда до конца, целиком прочел «В поисках утраченного времени».
Триумф «Бесприданницы»
Благодаря своим заграничным гастролям Маэстро видал много замечательных фильмов гораздо раньше нас. Он рассказывал о них с восторгом. От него я впервые услышала о Феллини, о Джульетте Мазине. Например, подробно рассказал мне «Дорогу» - он изумительно это делал. И когда я потом смотрела картину, было чувство, что я ее уже видела. И «Орфея» Кокто с Жаном Марэ и Марией Казарес. Он восхищался Пазолини, Висконти, Марлоном Брандо, Жанной Моро, Роми Шнайдер, Трентиньяном. Смотреть фильм было для него очень серьезным занятием - всегда сопереживал происходящему, как ребенок.
А уж видео, кажется, вообще изобрели для Рихтера. Он привозил, привозил, привозил кассеты -и «угощал» близких тем, что сам любил. Помню, мы смотрели дома фильм по роману Жана Жене -очень хороший, с Жанной Моро. Но там было много откровенных сцен. И вот Мэтр мне заявляет:
- «Нет, я не могу это с вами смотреть - мне неловко».
- «Да ладно, дядь Слав, я уже большая девочка, смешно даже! Я уже замужем тащу лет!»
- «Ну, хорошо, — соглашается он, — только в «таких» местах я вам буду глаза закрывать».
Ну, идет-идет фильм, я уже понимаю, что вот-вот должно произойти. И тут теплая лапа мне на глаза - оп! И я сижу и думаю: «Ой, как здорово! Побольше бы «таких» мест...»
Кстати, знаете, какой его самый любимый фильм? «Бесприданница» с Алисовой, Кторовым, Пыжовой и Балихиным. Семнадцать раз видел!
Веселья
Очень любил собирать друзей. На балы или даже на маскарады. Это все шло из детства - мама его и тетя очень артистичные были. У них дома, в Одессе, всегда устраивались веселья. В Москве на моей памяти несколько было. Дивный бал в ноябре 1978 года. Мэтр сам всю программу составил. Там и сольные танцы были, и сам он играл, и Андрей Гаврилов, и пение, и скрипка. Накануне устроили генеральную репетицию, чтоб не нахалтурить, чтоб была «основа для вольной импровизации» (его слова). Стены «залы» в их квартире на Бронной украсили серебряной гофрированной фольгой - сразу стало похоже на какой-нибудь Зимний дворец. В его спальне - фонтан. Одна струйка, но такая красивая. И соловья записали на магнитофон - представляете, еще и соловей щелкал! В кабинете у него устроили восточный буфет, в спальне Нины Львовны - западный.
Начался бал звуком трубы. Восемь пар пошли полонезом. Святослав Теофилович мне - раз! - руку, и мы с ним - следом за всеми. Мэтр со всеми старался потанцевать. Бал был два вечера подряд. На второй пришла Софья Станиславовна Пилявская. Красавица. Мэтр ее очень любил. Она говорит мне своим низким голосом: «Ей, старой ведьме, на погост пора, а она по балам скачет!» - булгаковская фраза. Рихтер приглашает ее на мазурку. «Славочка, я не могу...» Потом ко мне обращается - я ведь ученица ей: «Что же это он меня на мазурку? На полонез надо было, полонезом бы я пошла...»
Мэтр с удовольствием вспоминал и про давние маскарады. Как однажды, например, Ростропович нарядился крокодилом; Митя Терехов, художник, принес живого петуха; а Зоя Богомолец-подруга еще с одесских времен - оделась цыганкой и всем гадала.
Самый знаменитый маскарад Святослава Теофиловича был на его 45-летие 20 марта 1960 года. Мы, помню, готовились дней семь, причем участвовало в подготовке множество людей. Невероятные костюмы были вовсе не обязательны - можно только «домино» и полумаску. Эти маски клеить, вырезать даже бабушку мою засадили. Служить ему все и всегда были готовы.
Из большой «залы» - это было еще в их старой квартире в Брюсовом - все вынесли, оставили только рояли. Народу было! Но поначалу все как-то жались по углам, робели. И тогда моя мама вдруг села к роялю и заиграла вальс. Это мама-то! Она - такая скромная, застенчивая - и чтоб при Рихтере заиграть. Но надо же было как-то начать. И уж дальше понеслось - дым коромыслом!
В самый разгар веселья раздается звонок и входит пара - дама в цилиндре и сером кринолине, таком летящем, роскошном, и господин во фраке, небольшой, довольно плотный, безумно элегантный. В масках, конечно. Они эффектно так прошлись по зале, а мы - э-э-э??? Кто это? Не узнаем! Мэтр счастлив был беспредельно. Так кто, вы думаете, это был? Елена Сергеевна Булгакова и Федор Михайлович Михальский - Филя из «Театрального романа»!
Один из последних маскарадов - встреча нового 1988 года. Без особенных костюмов - только детали. Ну, например, Саша, муж мой, был в венецианском берете с пером. А я - в кокошнике. Мэтр, конечно, себе очень интересный вид придумал. И лицо, и костюм - все было разрисовано такими абстрактными штуками а ля Леже. Танцевали, конечно, без конца, показывали «живые картины». Олег Каган, чудный скрипач, был Рембрандт, а Наташа Гутман, жена его, виолончелистка знаменитая, — Саския: она устроилась у него на коленях с поднятым бокалом. Помните? «Автопортрет с Саскией на коленях».
Мэтр обожал шарады. В одной разыгрывали не помню точно какое слово (кажется, «Горио») - Святослав Теофилович играл Бальзака, а народная артистка Панкова - тетя Таня, как я ее называла - играла дочь, или нет, возлюбленную его, то есть Бальзака. Мэтр сидел в таком халате, она у его ног на полу, а он, развалившись, говорил: «Ах, эти дочки... Что-то надо с ними придумать». Все валялись от хохота.
А однажды Рихтер пришел к нам на Пасху с художницей Еленой Ахвледиани. У нас всегда места было очень мало, вокруг накрытого стола стулья не помещались - и мы клали доску на табуретки. Святослав Теофилович с Еленой Дмитриевной изображали слово «Надсон» - «над» и «сон». Это выглядело так: на стульях доска, под ней лежит «спящий» Рихтер; а она ходила по доске «над» ним.
Полнолуние
Он очень любил вкусно поесть. Обожал картошку - во всех видах. Блины из тертой картошки - деруны - одно из самых любимых блюд. Вообще любил простую еду, которую можно быстро бросить в кастрюльку или на сковородку - и готово. Но в то же время - китайские яйца («гнилые») или устриц. Разные у него были вкусы, разные.
Мне много приходилось ему готовить. Он борщи мои любил, ботвинью. Пюре я научилась делать нежное-нежное, как ему нравилось. И еще компот из вишни - «только чтоб ки-и-ислый...»
Я обожала его кормить. Расскажу вам один эпизод - он до сих пор для меня какой-то особенный. Это было в 1967 году, мы жили тогда на их первой знаменитой даче, на Оке. Нина Львовна с Митей уехали в Москву, а мы остались до следующего утра, решили плыть до Серпухова на пароходике. В ту ночь было полнолуние. Святослав Теофилович учил инвенции Баха. И вот - луна висит над рекой, над нашим домом, а он наверху играет Баха. И эти инвенции звучат в тихом воздухе, невероятно плотном, насыщенном ароматами... А я ему нажарила картошки вареной, на постном масле, с луком, как он любит - полную сковородку. Сижу внизу на ступеньках. Луна. Бах. Благоухание. А я думаю: «Сейчас я буду его кормить...» Я теперь знаю - это было счастье. А тогда не очень-то и понимала.
Записала Наталья Бойко. Опубликовано в газете «Вечерний клуб», 31.07.1999
С.Хентова.
«Музыкальная жизнь», 1999, №11
РИХТЕР ПОКОРЕННЫЙ
Показанный по российскому телевидению двухсерийный фильм о Святославе Рихтере вызвал большой интерес. Не только потому, что Рихтер – выдающийся пианист XX века. Он всегда привлекал внимание и как личность с необычными характером и судьбой. Сын одесского немца, расстрелянного за «критику советской власти» (хотя ничего этого не было, и донос был ложным), воспитанный русской матерью, бежавшей во время войны в фашистскую Германию, совершенно чуждый общественно-идеологическим интересам, не вступавший ни в комсомол, ни в коммунистическую партию (как поступили Д.Ойстрах, Э.Гилельс и другие советские артисты), Рихтер не преследовался советской властью, как это делалось и за меньшие «грехи». Недоверие сказалось лишь в задержке зарубежных гастролей, да и это преодолелось. В войну многих немцев из Москвы изгнали или арестовали, великий музыкант педагог Генрих Нейгауз, учитель Рихтера, долго задерживался в Свердловске, а Рихтера из Москвы не отправляли, концертов не лишали, а в самом конце войны выдвинули для участия во Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей, где он получил высшую, первую премию. Терпеливо сносились его отказы преподавать в Московской консерватории, отмены концертов, отказы заседать в жюри конкурсов имени Чайковского (за исключением Первого конкурса), подписывать отклики на разного рода политические события и прочее, и прочее. Один из великих советских музыкантов как-то сказал мне: «Только Слава Рихтер живет как хочет и делает что хочет. Только Слава Рихтер!» И действительно, в условиях советской власти, жестокой, беспощадной, Рихтер ощущал себя совершенно свободным, независимым и потому может считаться явлением исключительным, необыкновенным.
Хотя фильмов, подобных двухсерийному, в России не было, о Рихтере немало писали, да и сам он иногда кое-что публиковал. Нельзя сказать, что фактологически фильм явился открытием, нет, помимо немногих эпизодов (отношения с матерью, игра на похоронах Сталина), биография Рихтера была достаточно известна, изучена, изложена в ряде публикаций. Но есть главная особенность, определяющая воздействие фильма: в нем Рихтер рассказывает о себе сам и, что еще более важно, как рассказывает: с доверительной простотой, ощущением искренности, беспощадности оценок себя и всех, с кем сводила судьба.
Эта особенность – фильмовое авторство Рихтера – никем и никогда не сможет быть повторена и потому имеет еще и значение для эволюции биографического киножанра. Но есть одна узловая особенность, которую следует изучать, постигать, которую нужно пытаться продолжить в документально-музыкальных кинопроизведениях: отбор, последовательность записей музыки, их использование в развитии сюжета, драматургии фильма. Смею утверждать, что ни в одном биографическом фильме нет столь богатого, разнообразного, умело отобранного «музыкального ряда». Играющий Рихтер в разные периоды жизни, во многих городах и городишках, Рихтер в богатейшем уникальном репертуаре: Бах, Гайдн, Бетховен, Шуберт, Шопен, Брамс, Сен-Санс, Дебюсси, Равель, Рахманинов, Р.Штраус, Прокофьев. Труднейшая задача компоновки, сокращений, последовательности решена с удивительным музыкальным чутьем, так что каждый раз создается иллюзия не фрагментов, а всего сочинения. Несомненно, что именно такая полнота, отбор записей позволяют по фильму представить эволюцию пианиста, его трактовку стилей, то принципиально новое (в частности, например, в интерпретации сонат Шуберта), что он внес в современное фортепианное искусство.
Нельзя не отметить и отбор современников Рихтера, выступающих в фильме. Их совсем немного, и они не восхваляют, а, как Гленн Гульд, Артур Рубинштейн, кратко и серьезно выделяют основное в облике Рихтера. В совокупности фильм воссоздает не только сущность Рихтера: высказывания, записи помогают представить (и зачастую по-новому) творческий облик, творческие особенности Прокофьева, Шостаковича, Бриттена, Нейгауза, Юдиной, Караяна, Фалька. Воистину писательская психологическая проникновенность сказывается в тех лаконичных характеристиках, которые дает им Рихтер.
Фильм делался во Франции. Рихтер доверил его режиссеру Бруно Монсенжону, причем в ту пору, когда уже, надо полагать, осознавал приближение конца жизни. Это нельзя не учитывать в оценке ленты. Во французском варианте она называется «Загадка Рихтера», в русском – «Рихтер непокоренный». Пожалуй, более точным для фильма был бы заголовок «Рихтер покоренный»: ведь его покорила музыка, которой он отдал жизнь.
Софья ХЕНТОВА,
профессор Петербургской консерватории