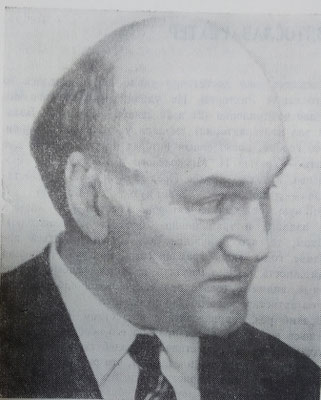1970-е
"О Рихтере. 70-е годы" - из книги “Музыкальное исполнительство”. М.: 1983, “Музыка”. Л. Гаккель. “Пианистический Ленинград, 70-е годы”
Л.Е.Гаккель. "Бесценное".
1971
"Почему музыка обязательно должна быть вычурной?" Интервью журналу "Шпигель", 20/12/71.
-----------------
1973
Л.Е.Гаккель. "Для музыки и для людей". Из сборника популярных очерков «Рассказы о музыке и музыкантах», М-Л., Советский Композитор, 1973, с. 124-151 (см. DOCUMENTS/BOOKS).
1975
Г.Цыпин. «Святослав Рихтер». «Советская музыка», 1975, №3.
И.С.Козловский. "Гармония". Журнал “Кругозор”, 1975, №5.
Г.Коган. «Гордость советского искусства». "Советская музыка", 1975, №7.
О.Сахарова. СВЯТОСЛАВ РИХТЕР. «Огонек», 1975, №14.
1976
Б.Владимирский. «Исполнительство и современная грамзапись». «Советская музыка», 1976, №4.
И.Менухин. "Неоконченное путешествие". (London: Methuen, 1976, pp. 297-99)
1977
Г.Цыпин. «На концертах Маурицио Поллини». «Музыкальная жизнь», 1977, №7 (фрагмент).
1978
Марина Израилевна Нестьева. "Реплика себе". «Советская музыка», 1978, № 9.
Я.Мильштейн. «Фильмы о Святослав Рихтер». «Музыкальная жизнь», 1978, №9.
Неизвестное интервью Святослава Рихтера. Лариса Крылова. 1978 г. Горький.
1979
Жак Лейзер. «В традициях Сола Юрока». «Музыкальная жизнь», 1979, №1 (январь).
1971
«Шпигель», № 52 от 20.12.1971 стр. 114.
"Почему музыка обязательно должна быть вычурной?"
Советский пианист Святослав Рихтер дал свой первый концерт в Западной Германии.
Шпигель: Господин Рихтер, вы впервые выступаете в ФРГ. Почему ранее вы обходили своим вниманием нашу страну?
Рихтер: Были какие-то проблемы с организацией.
Может быть, это также проблема отсутствия культурных связей между СССР и Западной Германией?
Рихтер: Но скрипач Давид Ойстрах и виолончелист Мстислав Ростропович все же здесь играли.
Вы ездили в Германию в гости, поскольку ваша мать жила недалеко от Штутгарта, неужели вы не думали о возможности дать тут один-два-концерта?
Рихтер: Видите ли, я не думаю о таких вещах – где мне играть. Я думаю, что мне играть. Я не занимаюсь планированием поездок и ненавижу быть связанным планами. Я знаю, что со мной сложно. Мне больше всего понравилось бы, если бы я просто мог сказать: сегодня в двенадцать часов я играю, к примеру, в Бонне, просто потому что у меня есть такое желание. Все это планирование, когда уже за год вперед определено, где ты должен будешь выступать, мне совершенно неинтересно. Прибавьте сюда, что я не летаю самолетом, с концерта на концерт я езжу на машине. И это означает, что я даю меньше концертов, чем другие артисты. В этом году 44, а раньше бывало и по 120 в год.
А в том, что публика в Западной Германии должна была так долго вас дожидаться, тоже виновато ваше нежелание вкупе с организационными проблемами?
Рихтер: Да, верно. Однако я очень рад, теперь, когда я уже тут сыграл, что публика оказалась чудесной…
И кроме того, у вас личные связи с Германией.
Рихтер: Да, но это все неважно.
Что ж, может быть. Но надо вспомнить о вашей любви к самому немецкому из всех немецких композиторов. Ведь вы большой поклонник Вагнера?
Рихтер: Да, Вагнер для меня больше, чем музыка. Его произведения – это чудо природы. Мне просто не хватает слов, чтобы это выразить. Это необъяснимо, почему в некоторых пассажах пробирает до дрожи, если брать чисто музыку. Вроде бы ничего особенного не происходит, но у Вагнера это имеет огромный смысл.
В этом и есть магия его музыки.
Рихтер: Да. Лейтмотив меча из «Нибелунгов» довольно-таки прост, но в контексте он действует как гипноз. Я полагаю, что Вагнер многое подслушал у природы. Это не сделанная музыка, его вдохновение подлинное.
Вы как-то раз выступали в качестве дирижера. Вам бы хотелось продирижировать оперой Вагнера?
Рихтер: Не только продирижировать, но и поставить, и больше всего «Тристана и Изольду». Но до этого, вероятно, никогда не дойдет, поскольку нужно делать все на совесть, а для этого у меня нет времени. Я должен много заниматься на рояле, чтобы оставаться в форме. И потом у меня есть еще другая идея, которую я обязательно осуществлю. Я хочу записать на пластинки весь свой репертуар.
Скажите, пожалуйста, сколько произведений насчитывает ваш репертуар?
Рихтер: Ну, подсчета я не веду.
Тогда сколько концертов для фортепиано и оркестра вы играете?
Рихтер: Где-то сорок.
И сколько сольных программ?
Рихтер: Тоже примерно сорок.
То есть, вы собираетесь записать на пластинки все искусство Рихтера, но в то же время, как вы сами когда-то сказали, вы бываете очень недовольны своими записями.
Рихтер: Это верно. Мне очень тяжело даются записи, у меня никогда нет для этого нужного настроения. Вообще существует одна-единственная запись, которая не вызывает у меня возражений: это Концерты Листа с Лондонским симфоническим оркестром и дирижером Кириллом Кондрашиным.
Не означает ли все это, что вы просто связаны договором с одной известной звукозаписывающей компанией?
Рихтер: Я не связан никаким договором..
Неужели? Но вы сотрудничаете с советской фирмой «Мелодия», которая выступала от вашего имени при заключении контракта с немецким «Евродиском».
Рихтер: Ах, как это интересно для артиста!
И как много дисков должно включать ваше собрание?
Рихтер: Что-то около пятидесяти. В Зальцбурге, где я часто делаю записи, у меня есть возможность задержаться и работать дольше. Это значит, что я могу сказать: «А вот сейчас я хочу делать пластинку». Я не так уж жестко ограничен в сроках. Трудности возникают в основном при записи концертов, поскольку я – по разным причинам – не всегда могу работать вместе с теми дирижерами, с которыми мне очень хотелось бы.
С кем из дирижеров вы больше всего любите играть?
Рихтер: У меня нет особых предпочтений. В последнее время мы много вместе играем с молодым итальянским дирижером Рикардо Мути. Раньше в течение долгого времени мы часто играли с Лорином Маазелем. Ну и конечно с советским дирижером Евгением Мравинским. Это наш лучший дирижер.
А с Караяном, говорят, у вас были разногласия по поводу Тройного концерта Бетховена?
Рихтер: Я очень уважаю этого дирижера. Многие считают, что он сейчас сильнейший. Но в Тройном концерте было еще два других солиста – Ойстрах и Ростропович. И все это вместе не очень хорошо. Что явилось самой, наверное, первейшей причиной разногласий, так это то, что мы должны были срочно сделать запись. Мы не могли ничего повторить, чтобы понять, как сыграть лучше. У нас не было возможности для самокритики, что совершенно неестественно.
Правда ли, что скоро состоится ваш дирижерский дебют в Германии? Вы получили приглашение дирижировать оркестром Берлинской филармонии.
Рихтер: Это пока еще неточно. Было бы слишком преждевременно это сейчас обсуждать.
Но вы бы с охотно это сделали?
Рихтер: Если бы у меня было время, то да.
А чем бы вы хотели дирижировать?
Рихтер: Есть так много произведений, которые я люблю.
Например?
Рихтер: «Симфония Доместика» Рихарда Штрауса.
Штраус – это еще одна ваша привязанность? Может быть, наравне с Вагнером?
Рихтер: Нет, многое из написанного им меня совсем не трогает. Но «Симфонию Доместику» я люблю. У меня есть три любимых композитора: Вагнер, Шопен, Дебюсси. Все трое, в некотором роде, выходят за всякие рамки, они совершенно особенные, оригинальные, вне традиций. Но если я называю троих своих любимых композиторов, это не значит, что другими я пренебрегаю.
А вы не забыли упомянуть имя одного современного композитора, которому вы, как известно, симпатизируете? Бенджамин Бриттен. Чем он вас привлекает?
Рихтер: Мне просто нравится его музыка.
Вы даже записали его концерт для фортепиано.
Рихтер: Да, мне это доставило большое удовольствие. Концерт совершенно очаровательный. Я считаю, что он и в опере сделал много интересного. Это по-настоящему большой композитор. Я им искренне восхищаюсь.
С какой уверенностью вы об этом говорите.
Рихтер: Бриттена принято считать сухим и консервативным. Это абсолютная чушь, наоборот, в его музыке есть очарование. Я знаю, что мои слова идут вразрез с устоявшимся мнением о нем. Но возьмите хотя бы его Концерт для фортепиано, который я играю. Это его очень давняя вещь. Но мне она нравится, потому что там есть шарм, она доставляет радость и поднимает настроение. Почему музыка непременно должна быть вычурной, почему? Разная музыка красива по-своему.
Господин Рихтер, вас считают виртуозом в традиционном смысле…
Рихтер: Это не слишком лестное мнение, какое-то поверхностное…
А вас интересует экспериментальная музыка? Могли бы вы себе представить, что однажды сыграете произведение Штокхаузена?
Рихтер: Да, я могу себе это представить. К сожалению, я этого пока не сделал.
Почему?
Рихтер: Все та же проблема – недостаток времени. И иногда бывает, что хочется вообще отвлечься от музыки. Да, я серьезно. Есть одна вещь, которую я люблю даже больше музыки – жизнь.
Кто из молодых советских композиторов вам нравится?
Рихтер: Прокофьев, который, как вы знаете, мне кое-что посвятил. А он вечно молод.
И больше никто для вас специально ничего не написал?
Рихтер: Нет. Среди прочих я выделяю еще одного композитора – Шостаковича. Вообще же композиторов конечно очень много. Даже слишком.
И вам не встречались другие таланты?
Рихтер: Я не общаюсь с композиторами, потому что это опасно: они нагрузят вас своими нотами, которые надо будет рассматривать. У меня уже и так их набралось целый чемодан. И однажды я сказал себе: нет, хватит. Я не стану тратить все свое время на чтение партитур. Я знаю, что по-человечески это отвратительно, эгоистично, но это все в целях самосохранения.
С исполнителями, однако, у вас складываются более добрые отношения…
Рихтер: В сущности нет…
Но вы, например, пригласили для репетиций молодого скрипача по фамилии Каган.
Рихтер: Да, он очень хорош.
Другой советский музыкант, виолончелист Ростропович, до недавнего времени не мог выезжать за пределы Советского Союза. Он написал открытое письмо в защиту писателя Солженицына…
Рихтер: Я не слишком хорошо знаком с обстоятельствами этого дела, чтобы его обсуждать.
Господин Рихтер, вы всегда играете, где хотите?
Рихтер: В Китае – нет.
И вы там уже выступали.
Рихтер: Да, в 1957 году.
Обязаны ли вы давать определенное число концертов в Советском Союзе?
Рихтер: В принципе нет. Чем больше я играю, тем лучше.
Но вскоре вы надолго покидаете Советский Союз и отправляетесь в длительное мировое турне.
Рихтер: Пока это только планы, на самом деле, секретные. Откуда вы узнали?
А вы не могли бы рассказать подробнее? Как долго будет продолжаться поездка?
Рихтер: Это один большой проект, такая поездка, которую артист нечасто может совершить. Это не просто концертное турне в общепринятом смысле, но такое путешествие, которое связано с посещением важнейших культурных центров на разных континентах и их изучением.
Господин Рихтер, большое спасибо за беседу.
«Шпигель», № 52 от 20.12.1971 стр. 114
Перевод Ксении Ересько
1975
Г.Цыпин. «Святослав Рихтер». «Советская музыка», 1975, №3.

Журнал “Кругозор” (1975, №5).
Иван Семенович Козловский
ГАРМОНИЯ
Какое чувство я испытываю к Рихтеру? – Зависть! Но не зависть Сальери. Наоборот, если бы можно было достать корень жизни из глубин моря или отвесных скал, достал бы, чтобы он и подобные ему жили на радость людям.
В детстве он слушал игру своего отца-органиста. Радуясь прекрасному, в то же время видел, что создавать это прекрасное – большой труд. Позже, аккомпанируя певцам на репетициях в оперном театре, осознавал притягательность и сложность их труда. Была и попытка дирижировать. Я помню Большой зал Московской консерватории и несмелые движения Рихтера, в которых, однако, был виден залог будущего могущественного звучания оркестра.. Сегодня у него рояль – оркестр!
С кем сравнить Святослава Рихтера? Не будем искать сравнений в искусстве. Посмотрите на ночное небо. Сколько на нем звезд! А если бы была одна, даже самая прекрасная, было бы печально и одиноко.
Человек стремится познать прекрасное, гармонию. Художник для этого должен остаться наедине с собой. Далеко от Москвы, на берегу Оки, строит Рихтер круглый, без углов, дом, свою “вавилонскую башню”. Как и башня, дом остался недостроенным. Всю свою жизнь, свой труд Рихтер посвятил людям. Своим искусством он дает им ощущение гармонии.
Это может сделать лишь тот художник, талант и сердце которого опалены и радостью и испытаниеми. Откройте ноты Восьмой сонаты Прокофьева, которую Рихтер недавно исполнял. Вторая часть – в ритме танца. Помню, однажды я предложил Сергею Сергеевичу Прокофьеву: “Что, если бы Вы написали музыку, а мы подобрали бы слова?” С необычайной быстротой он дал согласие. К сожалению, запись не состоялась. Но музыку Прокофьев включил в свою Восьмую сонату. Светлая музыка. А написана она человеком, прошедшим испытания.
Гармоничность натуры Рихтера мудро и талантливо развивалась поэтическим просветителем Г.Нейгаузом. И ученик чтит память учителя.
Рихтер любит живопись, устраивает у себя дома выставки, рисует сам, участвует в домашних спектаклях.
Он любит природу и море. Вспоминаю Гурзуф… Домик О.Л. Книппер-Чеховой на берегу бухты. Отменный пловец, Рихтер без маски опускался на дно и застывал так, задумавшись, прислушиваясь к неведомому. Но, садясь за рояль, он начинает повествовать мгновенно. Зная, о чем сказать и – как…
И. Козловский,
Народный артист СССР

Григорий Михайлович Коган
"Советская музыка", 1975, №7.
Гордость советского искусства.
Пианистами делаются по-разному. Большинство шло К МУЗЫКЕ ОТ ФОРТЕПИАНО, от ранних и многообещающих успехов в технике игры на этом инструменте. Таким путём шли и те, кто впоследствии развился в незаурядных музыкантов, выдающихся художников-интерпретаторов.
Путь Рихтера был иным. Рассказывают, что в юности в Одессе он менее всего думал о пианистической карьере. Игра на рояле была для него не самоцелью, а средством музицирования. Он увлекался театром, выполнял концертмейстерские обязанности в опере, жадно поглощал всевозможную музыкальную литературу — фортепианную и вокальную, ансамблевую и оркестровую. Лишь позже, в Москве, в классе Г.Нейгауза и, очевидно, под его влиянием, он начал всерьез задумываться о пианистической концертной деятельности.
Он шел К ФОРТЕПИАНО ОТ МУЗЫКИ. Это наложило ясный отпечаток на его игру. Большие пианисты предыдущей эпохи — Падеревский, Зауэр, Бузони, Годовский, Горовиц, Гофман и другие – при всех между ними различиях были влюблены в свой инструмент, в специфику его звучания, в моторную радость беготни и вольтижировки на клавиатуре. Эта влюблённость делала их порой неспособными устоять перед прельстительными соблазнами какого-нибудь чарующего звучания либо пьесы, «аппетитной» лишь в чисто пианистическом отношении. Рихтер не похож на этих прославленных мастеров. Он ценит, конечно, уникальные МУЗЫКАНТСКИЕ возможности фортепиано и технически великолепно владеет ими. Любые трудности моторного порядка преодолеваются им во время исполнения свободно, словно сами собой, «по пути» музыкального высказывания. Его forte энергично, pianissimo деликатно и нежно. Но за всеми этими и многими другими пианистическими качествами не чувствуется той особой, физической радости прикосновения к клавише, которая живёт в пальцевых подушечках «первородных» пианистов; оттого, например, рихтеровские piano и pianissimo звучат ИНОГДА недостаточно «осязаемо», несколько абстрактно. Ибо «предмет» его влюблённости — не фортепиано как таковое, а нечто иное, к чему он одержимо тянется душой ЧЕРЕЗ фортепиано, ПОВЕРХ него: Музыка.
Игра Рихтера — прежде всего игра большого, огромного музыканта, полного безраздельного благоговения перед открывающейся ему, а через его посредство слушателям, музыкой великих ее творцов. Никакого по отношению к ней своеволия, никакой не то что уступки - мысли о таковой ради личной ли прихоти, или вкусов, привычек, пристрастий аудитории, или эффектов, подсказываемых инструментом. Только она, Музыка с большой буквы, всегда отборная, художественно высокая, всегда прямое, без искушающих отклонений проникновение в самую сокровенную её глубь, сокровенную для других, простую и непреложную как истина — для него. Никакого своеволия. Да, и вместе с тем — всё ПО-СВОЕМУ, не так, как у других. По-своему не потому, что не согласился с автором, не из желания «выразить себя», «сделать иначе», а потому, что вглядывается в нотный текст, вслушивается в музыку не добросовестно-безличный «передатчик», а большая личность, неповторимая индивидуальность, мыслящая, чувствующая, слышащая по-своему, так, как никто другой. Индивидуальность живая, всё время растущая, развивающаяся, изменяющаяся.
По-другому играл Рихтер в московских концертах сезона 1974/75 года некоторые из ранее исполнявшихся им произведений - с тем же мастерством и убедительностью, так же благоговейно, но с большей свободой, словно сбрасывая какие-то внутренние оковы, порой ощущавшиеся прежде в его игре.
Репертуар Рихтера огромен: в него входят Бах и Моцарт, Бетховен и Шуберт, Шуман и Шопен, Лист и Брамс, Мусоргский и Римский-Корсаков, Глазунов и Рахманинов, Дебюсси и Скрябин - короче говоря, едва ли не всё значительное, что есть в фортепианной литературе. Все это интерпретируется им поистине замечательно. ОДИНАКОВО замечательно ? Пожалуй, нет. Шопен, например, кажется мне не всегда соприкасающимся с художественной натурой Рихтера; его грандиозному и глубокому Листу порой не хватает ораторского пафоса, игры красок, стремительных accelerando , ЛОМАЮЩИХ метроритмические путы. Зато в музыке нашего времени, в сонатах Прокофьева, в прелюдиях и фугах Шостаковича, он положительно не имеет равных: подразумеваю не только и даже не столько поразительное техническое совершенство рихтеровского исполнения, сколько ГОВОРЯЩУЮ выразительность его пальцев, интонационную содержательность музыкальной речи. И ещё: в произведениях различных авторов, в частности Бетховена, мне хотелось бы особенно отметить незабываемые моменты, когда пианист уже словно не играет, а как бы только истово слушает, созерцает развёртывающееся в тишине явление Музыки, моменты, о которых хочется сказать словами поэта: «Горними тихо летела душа небесами».
Артист, поднимающий слушателей па такую высоту, сам представляет собой несомненное ЯВЛЕНИЕ — не только в масштабе современности, но и за её пределами. И тут, на этой высоте уже теряют всякое значение частности вроде вопроса о большем или меньшем чувственном обаянии рихтеровского звука. Лист в этом отношении, как известно, уступал Тальбергу; однако игра Листа составила эпоху в пианистическом искусстве, слава же Тальберга оказалась непрочной и скоропреходящей.
Немцы с заслуженной гордостью говорят о «трёх великих Б» своей музыки — Бахе, Бетховене и Брамсе. Мы можем с тем же правом говорить о «трёх Р» русского пианизма — Рубинштейне, Рахманинове и Рихтере. Третий из них достойно стоит рядом со своими двумя великими предшественниками, достойно представляет советский пианизм в современном мире и в истории пианистического искусства.

О.Сахарова.
«Огонек», 1975, №14.
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
В истории искусства есть имена-легенды. У легенды свои законы: ее нельзя подсказать людям. Она не поддается шумной рекламе. Легенда всегда скромна, целомудренна. Потому что легенда – это не только талант и не только работа, но и самопожертвование, и честность. В искусстве героем легенды становится лишь тот, чья жизнь насыщена одним порывом, подчинена одной цели – творчеству...
В блистательный ряд избранных вписано имя, ставшее олицетворением всего лучшего, чем славно наше искусство, – пианиста, народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда Святослава Рихтера.
Его знают все. Для многих его фамилия стала почти нарицательной, она звучит как синоним слова «музыкант». Имя артиста выросло в понятие: в него вкладывается суть исполнительского искусства, суть музыки-откровения.
Если попросить кого-то, кто не раз слушал Рихтера, рассказать, «как он играет», ответ, видимо, будет схож со словами знаменитой арфистки Веры Георгиевны Дуловой: «Говорить об игре Рихтера простыми, обыденными словами нельзя, – они неспособны передать грандиозность чувств, открываемых им в музыке. А выспренность, словесный пафос с игрой Святослава Теофиловича вообще несовместимы. Просто, когда его слушаешь, переходишь в его мир. Бессознательно и с огромным душевным наслаждением открываешь для себя новое в давно привычных, знакомых звуках».
Каждый истинный талант – это особый строй чувств, особая гармония, особое ощущение жизни. Искусство, неустанно двигаясь вперед, питается скупыми озарениями их побед, а не валовым сбором выверенного, модного успеха.
...Первый концерт для фортепьяно с оркестром Петра Ильича Чайковского. Солирует Святослав Рихтер. Знакомые, даже привычные звуки темы вдруг рождают в вас ощущение скрытой тревоги. Мощные «колокольные» аккорды будто предупреждают: покоя не будет! Не будет довольства от созерцания красот мелодий и виртуозности. Рихтер словно вскрывает главный нерв музыки, все подчиняя ему: клавиатуру, собственные пальцы, палочку дирижера, оркестр, дыхание зала... Все, что творит музыку, становится единым организмом, где рояль – главный голос, голос души. Он вплетается в общую ткань музыки: вот он растворился в ней и вдруг – отринул все: скрипки, валторны, флейты... И тогда в полную силу звука: его глубина, продолженность делают музыкальные образы почти материальными, осязаемыми. Величие и скрытая тревога, мольба и неспешное раздумье, удалое веселье и торжественность гимна – все оказывается неразрывно связанным пианистом в одной общей идее.
Вот здесь-то и приходишь к тому непреложному ощущению, что воля исполнителя звучит как олицетворенная воля композитора, будь то Чайковский или Шуберт, Мусоргский или Бетховен. При всей нынешней моде на «собственные видения» самой смелой интерпретацией оказывается точное воплощение авторского замысла.
Как-то на одной из встреч в Центральном Доме работников искусств Святослав Теофилович, отвечая на вопросы о принципах его исполнительства, сказал: «Я просто стараюсь играть так, как написано композитором».
Сложнее такой простоты в исполнительском искусстве ничего нет. Чтобы прочесть правду большой музыки, надо обладать тем же богатством чувств и дарования, что и ее автор. Святославу Рихтеру это дано, как, пожалуй, никому другому.
Может быть, поэтому, когда слушаешь в исполнении Рихтера сочинения Баха и Скрябина, Листа и Рахманинова, противу всякого здравого смысла приходишь к мысли, что великие наши предки писали свою музыку именно для Рихтера: доверие композитора к исполнителю будто оживает в музыке, радуясь освобождению.
Недаром и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича привлекла дорогая эта черта пианиста. «Мне кажется, что главной задачей, которую ставит себе С. Рихтер, является точное и в то же время творчески-вдохновенное изложение авторского замысла. Этой цели С. Рихтер посвящает весь свой огромный талант, все свое феноменальное мастерство».
Талант и мастерство... В какой подчиненности они сосуществуют? Что создает основу признания? Мы теперь много и всерьез говорим о профессионализме художника. О роли и месте профессионализма в процессе творчества. Но не приводит ли это к обеднению отправного импульса в искусстве: одержимости, неотрывной от создания образов? Мастерство Рихтера, о котором говорит Шостакович, – хлеб его таланта. Дар его не мог жить вне колоссальной музыкальной эрудиции, тренированной памяти, – сейчас активный репертуар Святослава Теофиловича обширен, как ни у какого другого исполнителя (при том, что некоторые сочинения исполнялись им единожды). Однако все это копилось – подспудно ли, сознательно ли, но лишь как средство, отнюдь не становясь целью. Думается, что и недюжинные способности Рихтера-живописца – тоже пища для его таланта...
Это и есть одержимость творчеством. Кажется, давным-давно она привела молодого музыканта в Москву, в консерваторский класс Генриха Густавовича Нейгауза. Поддерживала в трудные, нерадостные дни. Вела от успеха к успеху, роняла в душу горечь неудовлетворенности, не давая остановиться, застыть. И, кто знает, может быть, святая эта одержимость могла ни разу не поступиться своими принципами.
Говорят, любая страсть рождает ответную... Чувство, которое испытывают к Рихтеру любители музыки, – истинная страсть, а не поклонничество, не ажиотаж вокруг кумира. Уже в военные годы студенческие концерты с участием, молодого пианиста собирали слушателей со всей Москвы. Во время выступления Святослава Рихтера на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в 1945 году зрители сидели буквально по трое; на одном стуле. Внезапно посреди выступления погас свет. Но пианист не умолк, а публика не зашумела; прослушивание продолжалось при свете свечи. И когда она вдруг упала вместе с последним аккордом, в замершей темноте зала особенно драгоценной была та тишина между последним звуком музыки и шквалом аплодисментов, которая и есть признание.
Признание Рихтеру приносит каждая новая запись, каждый новый концерт, будь то в зарубежных гастролях или на родине.
Не так давно во Франции, в Лионе, концерт Рихтера задержался, на неопределенное время: зрителям сказали, что опаздывает самолет, на котором летел пианист! Кроме этого, выяснилось, что Рихтер нездоров и неизвестно вообще, состоится ли концерт. Полторы тысячи зрителей ждали более часа, когда дирекция зала объявила: только врач, находящийся у Рихтера, скажет, можно ли ем играть. Публика продолжала ждать... Что сказал врач, неизвестно, но Рихтер не обманул ожиданий своих почитателей. Он играл, как всегда, вдохновенно, страстно и правдиво.
1976
Б.Владимирский. «Исполнительство и современная грамзапись». «Советская музыка», 1976, №4.
(Фрагменты)
Запомнилась и запись С. Рихтером Седьмой сонаты С. Прокофьева в осенний день 1958 года в Большом зале консерватории. Запись осуществлял ныне покойный талантливейший звукорежиссер Д.Гаклин. Играл Рихтер, как всегда, увлеченно, как мне тогда казалось, исключительно проникновенно и вместе с тем с какой-то предельно прокофьевской ясностью. «Загвоздка» произошла с медленной частью сонаты. Каждый вариант пианист прослушивал и отклонял. Вероятно, на пятом или шестом из них я осмелился сказать, что не ощущаю существенной разницы между вариантами, что если они и отличаются чем-то друг от друга, то едва уловимо. Пианист возразил: «Да что Вы, разве Вы не слышите, что отсутствует главное — безмолвная (!) пустынность. Ведь телеграфные столбы там стоят сиротливо, с оборванными проводами...». Не ручаюсь за абсолютную точность слов, но смысл их мне хорошо запомнился. Сложный духовный мир произведения для великого интерпретатора становился как бы видимым.
--------------------
Я неоднократно слушал в трактовке С.Рихтера «Картинки с выставки» Мусоргского, и каждый раз он ошеломлял меня предельной «зримостью» образов.
Б.Владимирский
«Исполнительство и современная грамзапись». «Советская музыка», 1976, №4.
Путь современных граммофонных записей от «рождения» до «зрелости» полон трудностей. Ведь каждая пластинка должна, в сущности, стать произведением искусства. Цель ее — воспроизвести в грамзаписи наиболее точно и по возможности без «потерь» творчество исполнителя. Вместе с ним над этим трудятся звукорежиссеры, редакторы и инженеры. Успех пластинки зависит, если можно так выразиться, от их «сыгранности».
Процесс записи нельзя сравнивать с концертным выступлением перед аудиторией слушателей. В концерте у исполнителя могут быть и действительно бывают, как принято говорить, «случайности». Но здесь они не имеют особого значения, так как с лихвой окупаются атмосферой расположенности и доверия к артисту, в том, конечно, случае, когда слушатели встречаются с подлинным художником.
Во Всесоюзной студии грамзаписи хранится множество записей, произведенных на концертах С.Рихтера. Выдающийся музыкант нашего времени, обладающий кроме многих его удивительных достоинств еще и поразительным свойством помнить все, что им исполнялось независимо от времени и места, категорически «отрекается» от этих записей даже без прослушивания.
Конечно, бывают и счастливые исключения. Подлинные шедевры исполнительского творчества доносят до нас трансляционные записи Эмиля Гилельса (сонаты Шопена, Шумана и Листа), Святослава Рихтера («Аппассионата» Бетховена), ансамбля Давида Ойстраха и Святослава Рихтера (сонаты для скрипки и фортепиано Брамса, Франка, Шостаковича). Всесоюзная студия грамзаписи выпустила альбом пластинок с записями Заслуженного коллектива республики Симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Е.Мравинского, произведенными много лет тому назад во время его гастролей в Москве, в Большом зале Московской консерватории. Эти записи с полным основанием могут быть отнесены к числу самых блестящих достижений оркестра и его дирижера.
Не так давно на студии удалось смонтировать запись Третьего концерта Рахманинова в исполнении Э. Гилельса и Филадельфийского симфонического оркестра, произведенную с концертов в разных городах на двух любительских тондисках. Несмотря на технические несовершенства, она несомненно доносит до нас одно из исключительных исполнительских достижений современности.
И все-таки подобные удачи весьма редки и в данной области, к сожалению, никак не типичны.
Хорошо известно, что на исполнителя, на характер предлагаемой им интерпретации воздействует ряд обстоятельств, которые отсутствуют в студийных условиях: приподнятость настроения, непосредственный контакт с аудиторией, обостренное ощущение звуковой ткани произведения.
Обстановка на записи требует от артиста исключительно трезвой оценки своего исполнительского плана, так сказать, обобщенной интерпретации. К безбоязненным рыцарям микрофона следует отнести замечательных пианистов С.Фейнберга, М.Юдину и Г.Гинзбурга. Им, кстати, было чуждо представление о монтаже как о некоем спасительном средстве.
Другие, не менее замечательные музыканты, так и не смогли преодолеть студийный «вакуум». Приведу один, но, быть может, наиболее характерный пример. Я имею в виду Владимира Софроницкого. При его жизни было сделано лишь крайне незначительное число записей. Артисту претила мертвая студийная тишина и деловитость самого процесса. Творчество Софроницкого расцветало только в общении со слушателями.
К счастью, какую-то часть его выступлений все-таки удалось записать. Делалось это и в концертных залах и в студийных условиях, где приходилось идти на откровенный обман. Софроницкому говорили: «Владимир Владимирович, пожалуйста, музицируйте сколько хотите, а микрофоны будут выключены (на самохм деле они отнюдь не бездействовали.— Б.В.). Когда захотите, мы их включим». Но он редко этого хотел (щепетильность в оценках своих записей достигала у него гиперболических размеров и нередко граничила с крайними, я бы сказал, болезненными преувеличениями). Между тем микрофоны без ведома артиста фиксировали его музицирование. Это дало возможность сохранить в грамзаписи тонкое искусство щедро одаренного музыканта.
Немногие понимают, какие трудности, психологические барьеры преодолевает исполнитель в пустой студии и как редко подлинно взыскательный художник испытывает настоящее удовлетворение от своей работы на записи.
Пользуюсь возможностью отметить, скажем прямо, подвиг замечательной пианистки М.Гринберг, осуществившей запись на грампластинки тридцати двух сонат Бетховена. По силе проникновения и совершенному мастерству ее интерпретацию можно поставить в ряд с воплощением цикла Артуром Шнабелем.
Припоминаются многолетней давности обстоятельства первой записи Э.Гилельсом Первого фортепианного концерта Чайковского. Работа длилась почти неделю. И, как это нередко бывает, ее преследовала цепь неудач. Многочисленные варианты различных эпизодов страдали теми или другими недостатками. И когда казалось, что «истина» найдена, в оркестровом аккомпанементе возникали непредвиденные «зацепки» или ансамблевые погрешности. Наконец, запись была завершена, смонтирована звукорежиссером и... начисто забракована исполнителем. Снова все сначала! И вдруг в какой-то момент куда-то исчезли преграды, возникла атмосфера радостного творчества, и концерт был записан, как говорится, в один присест. По-видимому, это оказалось возможным именно потому, что последнему варианту предшествовал длительный исключительно трудный поиск.
Запомнилась и запись С. Рихтером Седьмой сонаты С. Прокофьева в осенний день 1958 года в Большом зале консерватории. Запись осуществлял ныне покойный талантливейший звукорежиссер Д.Гаклин. Играл Рихтер, как всегда, увлеченно, как мне тогда казалось, исключительно проникновенно и вместе с тем с какой-то предельно прокофьевской ясностью. «Загвоздка» произошла с медленной частью сонаты. Каждый вариант пианист прослушивал и отклонял. Вероятно, на пятом или шестом из них я осмелился сказать, что не ощущаю существенной разницы между вариантами, что если они и отличаются чем-то друг от друга, то едва уловимо. Пианист возразил: «Да что Вы, разве Вы не слышите, что отсутствует главное — безмолвная (!) пустынность. Ведь телеграфные столбы там стоят сиротливо, с оборванными проводами...». Не ручаюсь за абсолютную точность слов, но смысл их мне хорошо запомнился. Сложный духовный мир произведения для великого интерпретатора становился как бы видимым.
Таких замечательных музыкантов, как В.Софроницкий, Э.Гилельс и С.Рихтер, нельзя, конечно, обвинять в микрофонобоязни. Трудности, возникающие при записи исполнителей столь высокого класса, — результат их исключительной взыскательности прежде всего к себе, результат, можно сказать, их глубокого уважения к грампластинке и, конечно, к тем людям, которые трудятся вместе с ними над ее созданием. Микрофон, как неумолимый судья, требует безукоризненной художнической честности и четкого технического воплощения виртуозных сторон произведения. Его ведь не обманешь. К сожалению, нередко в студийном зале нервы исполнителей — и молодых, и даже закаленных в баталиях международных конкурсов — сдают. Грампластинке приходится «идти на уступки». Так в прошлом было, в частности, с талантливым пианистом А.Слободяником. Зная его нелюбовь в то время к студийным условиям, мы на Всесоюзной студии грамзаписи решили записать все этюды Шопена во время его концерта в Большом зале консерватории. Удача превзошла всякие ожидания. Были сделаны лишь небольшие дописки. Пластинка получила признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. *
Конечно, многие исполнители «заражаются» самой музыкой и для них присутствие публики совершенно необязательно, К ним относился, прежде всего, великий скрипач нашей эпохи Давид Ойстрах. Для артистов оркестров, сотрудников Дома звукозаписи и Всесоюзной студии грамзаписи всегда было счастьем работать с ним. Отсутствовали проблемы интонационных неточностей, непредвиденные, вернее, неоправданные темпоритмические «подробости» исполнения. Не могло быть речи о каких-либо текстовых вольностях или нарушениях авторских пожеланий. Не зря Д.Шостакович как-то сказал по поводу интерпретации Ойстрахом Второго скрипичного концерта, что если б он каким-то чудом стал играть на скрипке, то именно так исполнил бы этот концерт. Все сложное становилось легкодостижимым, трудности испарялись, как ручейки, пригретые после обильного дождя лучами солнца. Ойстрах и был солнечной личностью! Наверное, грампластинка никогда не позволит забыть творчество этого великого музыканта. Почти весь его огромный скрипичный репертуар нашел свое отражение в дискографии. Он дружил с грампластинкой. Многие его записи на пленке, сохранившиеся в нашей стране и за рубежом, еще ждут своего перенесения на диски. Это относится и к его выдающейся ансамблевой деятельности.
Вспоминаются далекие годы, когда молодой Давид Федорович по инициативе музыкального радиовещания создал струнный квартет. Какое счастье, что кусочек своего горячего сердца он отдал созданию ряда грамзаписей квартетов Бетховена, Шуберта, Мендельсона, Чайковского! Точно так же нельзя забыть записи с его участием ряда трио, бесчисленного количества сонат для скрипки и фортепиано.
К числу выдающихся советских исполнителей, чье творчество достаточно полно представлено в дискографии, относится Д.Шафран. Его пластинки уже давно вошли в бесценный фонд мировой музыкальной исполнительской культуры. Безупречный вкус, глубокая проникновенность в интерпретации произведений различных эпох и стилей в соединении с блистательным мастерством делают их неповторимыми. Особенно надо отметить «отзывчивость» Шафрана на советскую музыку. Об этом убедительно свидетельствуют его трактовки сочинений С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Д.Кабалевского.
Необходимо сказать и о выдающемся скрипаче Л. Когане, для которого грамзапись — как бы вторая сторона его артистической жизни. Мне не забыть, как еще мальчиком он в сопровождении своего замечательного учителя А.Ямпольского пришел в Дом звукозаписи почти сразу, и словно на одном дыхании записал с оркестром (под управлением В.Небольсина) труднейшую Фантазию Сарасате на темы «Кармен» Бизе. Задушевность в лирических эпизодах, страстность в других, наконец, головокружительная виртуозность, наверное, и до сих пор никого не могут оставить равнодушным. Не ошибусь, если назову это исполнение едва ли не первым триумфом в грамзаписи того, чье имя прочно вошло сегодня во все граммофонные каталоги мира как имя блистательного интерпретатора произведений разных стилей и эпох.
Все более представительной становится с каждым годом дискография И.Ойстраха. Одаренный скрипач, наследуя опыт своего отца, выявляет себя в самых разных сферах — сольной и ансамблевой.
А вот другой пример, характернее которого, если говорить о значимости грамзаписи в творчестве исполнителя, вспомнить трудно. Я имею в виду пианиста Л.Бермана, чьи пластинки с Трансцендентными этюдами Листа принесли ему мировую известность задолго до того, как его услышали в крупнейших музыкальных центрах Европы и Америки.
Хочется сказать и о талантливой пианистке Т.Николаевой, обладающей феноменальной музыкальной памятью. Это помогает ей легко переноситься из сферы «Хорошо темперированного клавира» Баха к Двадцати четырем прелюдиям и фугам Д.Шостаковича и другим произведениям.
Большое место граммофонная запись занимает в артистической жизни ряда молодых талантливых музыкантов: пианистов А.Наседкина, Э.Вирсаладзе, А.Любимова, Е.Могилевского, В.Крайнева, Г.Соколова, В.Ересько. Все они вместе со скрипачами Г.Кремером, В.Спиваковым, В.Третьяковым и О.Каганом, виолончелистками Н.Гутман, Н.Шаховской, К.Георгиан принадлежат к новой генерации советской исполнительской школы, достойно ее представляя во всем мире.
Особо необходимо задуматься о значении грамзаписи в искусстве вокалистов. Певческий голос, наверное, самый хрупкий музыкальный инструмент. Его подстерегают всякого рода неожиданности, век его, за редким исключением, весьма короток.
Надо ли утверждать, что грамзапись должна учитывать особенности вокального жанра и постоянно заботиться об обогащении своих фондов действительно неповторимыми ценностями в этой области? Как обстоят здесь дела? Искусство Н.Обуховой, М.Максаковой, С.Преображенской, В.Барсовой, А.Пирогова, Б.Гмыри, С.Лемешева — подлинных мастеров современного вокального исполнительства — нам удалось до известной степени сохранить для грядущих поколений. Долгая певческая судьба таких певцов, как И.Козловский, М.Рейзен, П.Норцов, позволяет, к счастью, и сейчас обогащать дискографию. К сожалению, творчество многих великолепных певцов прошлых лет осталось незапечатленным на пленке, недостаточно интенсивно ведется работа в этой области и в настоящее время.
Часто неискушенные любители пластинок отмечают «неповоротливость» работников грамзаписи (и доля правды в упреке есть), удивляясь, почему до сих пор не записаны все (!) сонаты Бетховена С.Рихтером или «Петрушка» Стравинского Э.Гилельсом или Двадцать четыре каприса Паганини Л.Коганом. Они не учитывают, как много привходящих обстоятельств стоит иногда на пути подобных записей. Главное из них — отсутствие координации между гастрольными графиками исполнителей и планами их записей.
Интенсивно гастролирующие артисты, такие, как Э.Гилельс, С.Рихтер, Л.Коган и Д.Шафран, все реже находят время для фиксации в грамзаписи хотя бы небольшой части своего обширного репертуара. Вместе с тем, к этому порой стремятся исполнители, пока еще не имеющие на то достаточного права. И здесь со всей определенностью хочу сказать, что лауреатский титул сам по себе вовсе не дает такого права. Обращусь к статистике. Недавно вышел справочник «Музыканты соревнуются». Из него видно, что лауреатских титулов до 1973 года были удостоены свыше 600 советских исполнителей. Между тем, по самым приблизительным подсчетам, только 60 из них «уцелело» на концертной эстраде.
Если взять лауреатов только первой премии конкурсов 1973 и 1974 годов, то из 13 ее обладателей на концертной эстраде закрепилось чуть больше половины. (Замечу попутно, что отсев «увенчанных лаврами» музыкантов не может не вызвать серьезной тревоги. Очевидно, здесь происходят какие-то процессы, которые давно следовало бы изучить.)
Необходимо определить четкие критерии, дающие право молодому артисту на грамзапись. Однако сразу можно сказать, что пластинка должна фиксировать искусство тех молодых артистов, которые получили международное или всесоюзное признание, ведут активную концертную деятельность в стране независимо от принадлежности к лауреатскому «племени».
Целесообразно со всей остротой поставить вопрос о планировании сроков записи наших выдающихся исполнителей так же, как планируется их концертная деятельность. Тем самым будут обеспечены реальные возможности запечатлеть выдающиеся исполнительские свершения. Разумное решение такого вопроса должно быть найдено как можно скорее.
Конечно, близится время, когда в фонде советской грамзаписи будут все или почти все произведения мировой музыкальной литературы, но разве этим исчерпываются наши задачи? Отнюдь нет! Ведь индивидуальность каждого нового исполнителя как бы дополняет произведение сзоими, только ему свойственными особенностями. В этом подлинная радость творческого познания произведения! В этом его неисчерпаемость!
Я неоднократно слушал в трактовке С.Рихтера «Картинки с выставки» Мусоргского, и каждый раз он ошеломлял меня предельной «зримостью» образов. А ведь «Картинки» играют многие...
Некоторых любителей музыки, хоть раз услышавших незатейливую «Тройку» Чайковского в интерпретации С. Рахманинова, вряд ли «устроит» другое исполнение.
Сколько неисхоженных дорог таит в себе исполнительство!
В грамзаписи должны быть десятки интерпретаций выдающихся музыкальных творений. Разве это не замечательно, что Первый фортепианный концерт Чайковского звучит в грамзаписи у Э.Гилельса,* С.Рихтера, В.Клиберна, В.Крайнева, а Скрипичный концерт у Д.Ойстраха, Л.Когана, Б.Гутникова и В.Климова? Известно, что многие произведения записаны Ф. Шаляпиным в разное время в пяти и более вариантах. И каждая из этих записей по-своему привлекательна и убедительна.
Пианистический путь великого Рахманинова до конца его дней был украшен все новыми и новыми исполнительскими достижениями. Поразителен пример творческой неиссякаемости Артура Рубинштейна, сохранившего в 80-летнем возрасте юношеский полет фантазии в сочетании с мудрым опытом художника, знающего, что дозволено в мире звукового восприятия и где находится та незаметная грань, которая охраняет воздвигнутое его вдохновением сияющее «здание» от низвержения в царство откровенной скуки.
У большого музыканта есть свои этапы развития. Одни достигают сияющих вершин вдохновенного совершенства в раннем, другие, наоборот, в зрелом возрасте. И если мы намерены в недалеком будущем выпускать «полные собрания исполнений» того или иного выдающегося артиста, которые одни только и способны увековечить для потомков его творческий облик, его вклад в историю искусства, то мы должны, вероятно, для самих себя решить, что называть таким полным собранием. Мне думается, оно должно включать не только все произведения, записанные артистом, но и различные варианты интерпретации одного и того же произведения. Один из первых опытов подобного решения слушатели нашли в нашем альбоме, посвященном искусству Ф. Шаляпина, где представлены, хотя и не исчерпывающе, различные воплощения великим певцом отдельных произведений из его огромного репертуара.
В этой статье до сих пор говорилось в основном о труде исполнителя-«одиночки». Но легко себе представить, как умножаются сложности при записи оперного или драматического спектакля, симфонического произведения, оратории или литературной композиции.
И здесь в первую очередь хочется посетовать на то, как трудно планомерно привлекать для этой цели театральные коллективы, симфонические оркестры, хоры. Нельзя считать терпимым положение, когда некоторые записи, например спектаклей Большого театра СССР, длятся годами: «Руслана и Людмилы» — почти три года, «Хованщины» — около двух лет. Чего можно, казалось бы, ждать от качества записи оперы, если она будет состоять из отдельных фрагментов, разных по звучанию и настроению? Но даже в столь незавидных условиях коллективу звукорежиссеров и звукооператоров удается «вытягивать» качество. Достаточно сказать, что запись той же «Хованщины» (звукорежиссеры И.Вепринцев и Е.Бунеева) отмечена высшими наградами во Франции и в Японии.
В равной степени сказанное относится к записям сольных программ певцов. Здесь сроки тоже непомерно затягиваются.
Прочные контакты Всесоюзной студии грамзаписи с Центральным радиовещанием, обладающим своими стабильными музыкальными коллективами, уже сейчас позволяют нам расширить репертуар оперных и симфонических записей, редко исполняемых инструментальных и вокальных ансамблей.
Несомненно, давно назрела необходимость серьезного разговора о труде звукорежиссера. В нашей стране, в отличие от многих других стран, записи осуществляют музыканты, обладающие некоторыми техническими познаниями. Сочность и яркость звучания отдельных инструментов, правильные звуковые соотношения (баланс) между ними, точная фиксация динамических особенностей исполнения — все это целиком на «совести» звукорежиссера. Он должен не только хорошо знатъ записываемое произведение, но и быть заботливым помощником, другом исполнителя. Последний доверчиво ждет от звукорежиссера точной фиксации на пластинке не только изложения текста, пусть даже безупречного, но и большего — воплощения возвышенности его видения, душевной взволнованности. Многие записи служат примером звукорежиссерского «вживания» в намерения исполнителей. Назову, в частности, записи, удостоенные многих международных наград: всех симфоний и «Манфреда» Чайковского (Госоркестр, дирижер Е.Светланов, звукорежиссер А.Гроссман), всех симфоний С.Прокофьева (БСО, Г.Рождественский, И.Вепринцев), скрипичных сонат Брамса, Первой Бартока и Первой С.Прокофьева (Д. Ойстрах — С. Рихтер, И. Вепринцев), оперы Д.Шостаковича «Нос» - (Московский Камерный музыкальный театр, Г.Рождественский, С.Пазухин).
Но, к сожалению, бывает и так, что все тонкости интерпретаций утрачиваются из-за технической неумелости звукорежиссера, его недостаточно взыскательного вкуса, наконец, слуховой неразборчивости. В век стереозвучания, все более и более богатой по своим возможностям техники звукозаписи от звукорежиссера требуются еще более основательные, научно проверенные и точные методы записи.
С другой стороны, и это следует подчеркнуть, исполнитель, если он подлинный профессионал, не должен надеяться на «чудеса» звукорежиссерского монтажа, не должен ждать или, что еще хуже, требовать внесения в свою запись динамических черт, которые отсутствовали в его исполнении.
Я исповедую точку зрения, согласно которой самое важное в искусстве звукорежиссера — установить при записи такой уровень звучания, который обеспечивал бы натуральное и абсолютно точное воспроизведение исполнения во всем многообразии его тончайших граней. Лучшим звукорежиссером является. по-моему, тот, который во время записи не включает и не отключает бесчисленные микрофоны, не усиливает и не ослабляет звучания отдельных фрагментов, не «вытаскивает» и не «прячет» отдельные инструменты. Словом, не «танцует» по всей клавиатуре звукозаписывающего пульта и не подменяет, скажем, в оркестре — дирижера. Глубоко противоестественным, да и противопоказанным представляется мне вмешательство звукорежиссера в творческую сферу исполнителя.
Уместно ли вообще понятие «почерк звукорежиссера»? Могут сказать, а некоторые так и утверждают, что звукорежиссер, подобно режиссеру в театре или кино, имеет право чуть ли не на концепцию звуковой трактовки записываемых произведений. С моей точки зрения, такие утверждения достаточно дискуссионны.
Современная студийная запись мне часто напоминает детскую проказу, когда ребенок разнимает часовой механизм на части, но, увы, сложить его вновь не может. Особенные сложности возникают при монтаже стереозаписей, так как «соединительные» функции здесь особенно трудны, а иногда и невозможны без нарушения характера произведения, динамики его звучания в целом.
За последние годы стереозапись заняла главенствующее положение. Поначалу увлечение стереозвучанием фактически свелось к разделению, так сказать, источников звука. Помню, как однажды за рубежом, будучи свидетелем записи Сонаты Бетховена для скрипки и фортепиано двумя выдающимися музыкантами, я был до крайности удивлен тем, что скрипка звучала на одном динамике, а рояль — на другом. Когда я заметил, что такого рода сонатные ансамбли должны звучать слитно и нет нужды отделять инструменты друг от друга, руководитель фирмы мне сказал: «Верно, Вы правы, но ведь покупатель хочет ясно ощущать расстояние между ними и в этом он видит смысл стереозаписи!» Тот давний разговор я вспомнил не случайно. На очереди внедрение четырехканального звучания (квадрофонии). Хотелось бы, чтобы в ходе данного процесса мы избежали увлечения множественностью звуковых источников как самоцели.
Исполнитель приходит на запись вполне подготовленный годами учебы,' концертной или театральной деятельности. Звукорежиссер, в основном, проходит «свои университеты» в самой студии звукозаписи. От него требуется в конечном счете только музыкальное образование. Пора, по-видимому, самым серьезным образом подумать о регулярной профессиональной подготовке звукорежиссеров (кстати, об этом давно уже говорят).
В ряде зарубежных стран таких специалистов обучают по специальным программам в высших музыкальных учебных заведениях. В 30-х годах отделение звукорежиссеров (тогда оно называлось отделением тонмейстеров) существовало и в Московской консерватории. Его закончили, в частности, корифеи советской звукозаписи А.Гроссман и Б.Вольский. Записи А.Гроссмана до сих пор сохраняют значение классических образцов — по сочности звучания, натуральности тембров музыкальных инструментов. Б.Вольский, работавший в кино, создал вместе с С.Эйзенштейном один из величайших шедевров звукового кинематографа — «Ивана Грозного».
Несколько соображений о музыкальном редакторе. В создании грамзаписи он играет свою, весьма существенную роль. На нем лежит большая ответственность за выбор репертуара, наиболее характерного для данного исполнителя, наиболее полно отражающего его интересы и возможности. Особенно нужна редакторская помощь молодым музыкантам. При этом редактор обязан учитывать уже существующий фонд записей, стремясь к его пополнению и обновлению. От редакторов, в конце концов, зависит степень: подготовленности записи: отбор и сочетание репертуара записываемого на пластинке, активное участие в процессе записи. Образной говоря, «ошибиться» в выборе репертуара; исполнитель имеет право—редактор никогда! Увы, нередко «ошибаются» обе стороны..."
Таковы некоторые! наблюдения и замечания по поводу роли исполнительства и практики записей в создании грампластинки.

Иегуди Менухин
Из книги Иегуди Менухина «Неоконченное путешествие». (London: Methuen, 1976, pp. 297-99)
Перевод Ксении Ересько
Неоконченное путешествие
Музыкальное образование в России имеет много удивительных особенностей. Например, великие виртуозы обязаны передавать свое мастерство молодежи. Единственное известное мне исключение представляет собой Святослав Рихтер, эксцентричность которого не подвластна никаким правилам.
Впервые я встретил Рихтера в Лондоне, когда он и его замечательная жена пришли на ужин к нам домой в Хайгейт. Однако задолго до того, как я или еще кто-то на Западе познакомился с ним, он успел широко здесь прославиться. В первые послевоенные годы другие русские пианисты, бывало, признавались: «Мы лишь бледные тени величайшего среди нас, и этот человек - Рихтер». В тот осенний вечер выдалась чудесная погода, и мы вышли подышать свежим воздухом в наш маленький садик, где я отчаянно пытался его разговорить.
- Итак, вы возвращаетесь в Москву?
- Да.
- Собираетесь выступать?
- О нет! Я никогда не выступаю зимой.
- Значит, будете преподавать?
- Я не преподаю. Я ненавижу преподавание.
- Наверное, на зиму вы предпочитаете уезжать на юг, в Крым?
- Я терпеть не могу Крым.
- Вы часто ходите в театр, в оперу?
- Я никогда никуда не хожу.
- Чем же вы тогда занимаетесь? – спросил я, не зная, что еще предположить.
- Зимую. Летом я готов давать сколько хотите концертов, но зимой я впадаю в спячку.
Он очень оживился, описывая, как это происходит. Как я понял, ему разрешили построить маленький домик на берегу реки недалеко от Москвы, в каком-то особом месте, отведенном для рыбалки. Этот дом, по его словам, имел стены «вот такой толщины» (он широко развел руки) и окна «вот такой ширины» (сделал глазок из большого и указательного пальцев). Дом надежно защищал не только от непогоды, но и от общества людей, ибо там не было дороги, и добраться до дома можно было только на джипе, да и то не всегда. Однако в продолжение вечера, особенно после совместного исполнения Сонаты соль мажор Брамса, все труднее было поверить, что он такой мизантроп, каким хочет себя представить. Поскольку он возвращался из США, Диана спросила его, как ему понравилась страна. Он ответил, что особенно ему понравился Чикаго. Заметив наши изумленные взгляды, он объяснил: «Всякий раз, когда я выходил из гостиницы в Чикаго, у меня было чувство, что может случиться все что угодно». Несколько лет спустя я стал свидетелем случая, который, наверное, пришелся по вкусу Рихтеру, любящему разные неожиданности.
В начале семидесятых годов, мы с Дианой побывали на концерте Давида Ойстраха и Святослава Рихтера в нью-йоркском Карнеги-холл. Исполнение первого произведения, Сонаты №6 ля мажор Бетховена (разумеется, прекрасное) прошло гладко. Затем, в первой части Сонаты ре минор Брамса, какой-то молодой человек, пробежав по проходу, вскочил на сцену и закричал: «Советская Россия ничем не лучше нацистской Германии!»
Музыка прервалась, и Давид Ойстрах покинул сцену, но Рихтер продолжал сидеть за роялем, с интересом разглядывая худого и взвинченного молодого фанатика, громко протестующего против обращения с евреями в Советском Союзе. Об акции, планируемой «Лигой защиты евреев», было известно заранее, но двое-трое полицейских, присутствующих в зале, не смогли ее предотвратить. Один из них, толстяк, увешанный оружием, стал неуклюже пробираться по проходу вслед за нарушителем. Слушатели помогли ему взобраться на сцену, откуда он и вывел этого молодого человека. Ойстрах вернулся, снова зазвучала соната Брамса и дошла до последней части, когда второй молодчик бросился к сцене, но на этот раз публика успела его перехватить.
В антракте мы с Дианой отправились в артистическую. Рихтер встретил нас радостно, но бедный расстроенный Ойстрах сидел на диване без сил, пока его жена, Тамара, хлопотала вокруг: после двух инфарктов подобные потрясения были для него опасны, и она страшно взволновалась.
- Иегуди, - сказал он, глядя на меня с печальной улыбкой, - waren das deine Juden oder meine Juden? Это были твои евреи или мои? – Das waren unsere Juden. Это были наши евреи, - честно ответил я ему.
Из книги Иегуди Менухина «Неоконченное путешествие». (London: Methuen, 1976, pp. 297-99)
Перевод Ксении Ересько
1977
Г.Цыпин. «На концертах Маурицио Поллини». «Музыкальная жизнь», 1977, №7 (фрагмент).
Я вспоминаю исполнение этой музыки Рихтером («Порыв» Шумана – прим. мое) – стремительную, раскаленную добела лавину страстей, всесокрушающий смерч…
1978
Марина Израилевна Нестьева.
«Советская музыка», 1978, № 9.
"Реплика себе".
Святослав Рихтер играет Шуберта. Как раз об этом мне пришлось писать в журнале несколько месяцев назад.* Об этом и вместе с тем совсем о другом. Потому что в концерте, о котором пойдет речь сейчас (2 мая, Большой зал консерватории), было все иначе — другая манера прочтения музыки, другой тип звукоизвлечения, формотворчества.
Куда ушли объективно-сдержанный тон, «отстраненность» лирики, обостренность контрастов, конструктивная четкость в построении цикла, свойственные исполнению пианистом сонат австрийского художника в 50-е и 60-е годы (тогда были сделаны записи этих сочинений)?
В тот майский вечер Рихтер словно воспринял и передал нам феномен Шуберта во всей его глубинной полноте: Шуберта, радующего непосредственностью ребенка, и Шуберта, поражающего мудростью зрелости, Шуберта с ясным взглядом на мир и Шуберта, прошедшего через безысходность отчаяния, Шуберта, поющего и Шуберта декламирующего. Пусть не покажется странным, но все эти пласты возникали в играемой музыке не только последовательно, но и в одновременности, то есть не только улавливались по горизонтали, но как бы постоянно выстраивались в невидимую нематериализованную вертикаль.
На том концерте Рихтер воочию доказал нам, что музыка (в частности, Шуберта вне всякого сомнения) «рождается в простой, безобидной и неоскорбляемой части нашей души... в охране этого родника не участвуют ни добро, ни зло: эта радость жизни находится по ту сторону добра и зла» (М. Пришвин. О поэзии).
Каким теплым и сокровенным тоном было пронизано исполнение медленной музыки, произносимой вполголоса. Она удивляла непосредственностью фразоведения, ажурным плетением поющей фактуры, бесконечно меняющейся и вместе с тем радующей узнаваемостью; то же в быстрой музыке, текущей, подобно говорящему ручейку в знаменитом вокальном цикле композитора, поражавшей бисерностью и отточенностью техники (но тихой, незаметной!), эластичностью, плавностью поэтизированных танцевальных рисунков. Ни одного «открытого» скачка, полное отсутствие «прямых углов» в интонационной графике! Даже forte всегда туттийно, объемно, как в стройно поющем ансамбле.
Надо всем господствовала протяженная линия, ей подчинялись и соотношения верхнего и нижнего голосов, каждый из которых по-своему главный, и ведение фразы, и наполнение crescendo, и смена частей, даже пьес, когда каждая следующая воспринималась и как что-то новое, и как продолжение предыдущей.
Программа концерта, подобно всем составляющим ее номерам, тоже имела в тот вечер признаки открыток разомкнутой формы — казалось, она может длиться бесконечно, и нам хотелось, чтобы она длилась бесконечно.
Рихтер сумел добиться невозможного — каждое мгновение времени он обращал в вечность. Но среди этого праздника духа, чистой парящей мысли, проникнутых богатейшими нюансами состояний, возникали и вполне конкретные жизненные картины, например, в лендлерах, веселящих слух тонким ощущением жанра, колорита, «заводным» ритмом, оркестральной игрой.
И еще одно. Некоторые из современников Шуберта считали, что он сочиняет в сомнамбулическом сне — с такой непринужденной легкостью появлялись на свет его мелодии, пленявшие своей естественно-природной грацией, «непридуманной» новизной. Шуберт обладал редким свойством — не навязывать свою индивидуальность тем, кто воспринимал его музыку, поэтому им и казалось, что прекрасные мелодии возникают помимо воли их создателя.
При всем безусловном совершенстве игры Рихтера (и в образно-эмоциональном смысле, и в области звука, и в техническом отношении, и в структурном плане) на том концерте была совсем неощутимой исполнительская работа с материалом. Музыка творилась будто сама по себе, без воли ее интерпретатора, без вмешательства властной, магически сильной индивидуальности пианиста.
Словно Данте, сопровождаемый Вергилием в глубины небытия, Рихтер, ведомый Шубертом, поднимался в духовную высь. И рождалось ощущение, что пианист играл в том концерте не только Шуберта, здесь чувствовались и его опыт постижения позднего Бетховена, и освоение им звуковой палитры импрессионистов, и проникновение в шопеновские миниатюры, и общение с современной музыкой. Конечно же, вспоминался дуэт пианиста с Д. Фишером-Дискау, уже ранее вдохновенно открывавший нам шубертовские «секреты». И на этот раз думалось, что исполнитель помог нам хоть немного приблизиться к той тайне, которая именуется Шубертом.
*См.: М. Нестьева. Творец лунных лучей и пламени солнца. «Советская музыка», 1978, № 3. Ред.
Опубликовано в журнале «Советская музыка» № 9, 1978

Неизвестное интервью Святослава Рихтера. Лариса Крылова. 1978 г. Горький.
1 августа – день памяти Рихтера. А 31 июля – день рождения Ларисы Крыловой (увы, уже умершей) – нижегородского журналиста, искусствоведа, автора книг по музыке, лектора и ведущей концертов в Горьковской филармонии.
Нынешняя публикация – чрезвычайно ценный раритет. Это интервью, которое взяла у Святослава Рихтера Лариса Крылова в 1978 году после его концерта в Горьком.
Каковы обстоятельства разговора Ларисы с великим пианистом и почему эта короткая беседа представляет такую ценность, будет ясно из вступительного слова автора. Уверена, текст интересен не только живой речью и мыслями Святослава Теофиловича, но и как свидетельство недосягаемо высокого уровня музыкальной публицистики тех лет, причём в нестоличной прессе.
Итак, ниже – текст Ларисы Крыловой о Рихтере.
За несколько месяцев до своей смерти Святослав Рихтер согласился дать интервью французскому телевидению. Фрагменты этого монолога записал и опубликовал Виталий Вульф, сообщив при этом публике, что
«Рихтер никогда не давал интервью, он всегда полагался только на язык музыки. Его искусство было слишком независимым…»
То, что Рихтер не даёт интервью газетчикам, и так все знали. Но мне повезло как никому, причём «никому» в буквальном смысле. Смысл везения заключался в том, что мне-то как раз и довелось взять интервью у Святослава Теофиловича.
Прошло больше четверти века, и теперь уже ясно, что то короткое интервью оказалось единственным!
Оно было напечатано 31 мая 1978 года в горьковской областной «молодёжке» – «Ленинской смене», я тогда вела там рубрику «Музыкальная среда».
Святослав Рихтер приехал в Горький на два концерта с оркестром студентов Московской консерватории, – сам по себе факт невероятный. Взглянув сегодня на программку тех концертов, вдруг осознаёшь: чудеса… Мало того, что Рихтер играет со студенческим (!) оркестром. Мало того. Потому что в оркестре сидят в роли именно музыкантов оркестра, а не солистов… Наталия Гутман и Олег Каган.
В программе – сочинения Баха.
Уж позвольте мне процитировать ту самую заметку, написанную сразу после концерта, по свежайшему впечатлению (там получился гибрид рецензии и интервью).
«…а во второй части вдруг – совершенно новый, завораживающий, почти флейтовый тембр, матовый, гаснущий в воздухе, – так исчезает на глазах след дыхания на стекле. Бесконечно протяжённая, гибкая линия, рисующая «видимые» очертания – тёмные лики, поникшие безмолвные фигуры… Изенгеймский алтарь?
Один из биографов Баха обронил предположение, что Бах мог видеть живопись Маттиса Грюневальда, художника времён Реформации. Всего лишь предположение, но оно почему-то зацепилось в памяти и выплыло оттуда именно сейчас».
Конечно, журналистов в тот вечер – видимо-невидимо здесь, в Кремлёвском концертном зале Горьковской филармонии. Рихтер не приезжал сюда 16 лет, и газетчики жаждут отхватить сенсацию. Однако у меня есть перед ними преимущество: они учились в университете, а я – в консерватории. И, стало быть, прекрасно знаю своих же, консерваторских профессоров, которые, в свою очередь, знакомы с Рихтером.
Антракт. В отчаянном броске хватаю за рукав Берту Соломоновну Маранц, прекрасную пианистку, заведующую кафедрой в консерватории: все знают, что она вместе с Рихтером училась в классе Генриха Нейгауза. Моё отчаяние и азарт, именуемые вместе «последний шанс», производят впечатление на профессора Маранц. Она говорит: я попробую. Ждите здесь.
Жду.
И вот появляется из артистической Берта Соломоновна:
– Идите, я его уговорила. Сказал только: «А она не будет спрашивать, кто мой любимый писатель?» Только быстро, и помните: он вообще всего этого не любит.
И я вхожу. В глубине артистической сидит на диване Рихтер. Причём выглядит совсем не как простой смертный: отчётливо помню, что его сверкающая лысина светилась нимбом. А горло у меня пересыхает от волнения даже сейчас. Потому что я так же отчётливо помню свой тогдашний страх.
Далее – снова цитирую текст 1978 года.
«Ну, так и есть: он говорит – неужели вы будете меня о чём-то спрашивать? Но улыбается не раздражённо. Я торгуюсь: ну хотя бы два вопроса можно? Рихтер смеётся: «Ладно, тогда уж три».
Три вопроса, как в сказках! Как в «Принцессе Турандот». И тут я в полном замешательстве понимаю, что не готова к таким жёстким условиям. Я же не ожидала, что прорвусь! И не сочинила заранее никаких вопросов. А в памяти продолжает звучать дивная медленная часть ре-минорного концерта, та самая, что почему-то напомнила о Грюневальде. И я, как в омут головой, неожиданно для себя самой трачу первую возможность.
– Как вы думаете, мог Бах видеть роспись Изенгеймского алтаря?
Рихтер отвечает, не задумываясь:
– Конечно, видел, я в этом не сомневаюсь. А вот я не видел, хотя и очень мечтал посмотреть. Это в Кольмаре… Я специально приезжал, пришел, а там в музее двери были почему-то заперты.
– А как вы относитесь к сюжетным истолкованиям инструментальной музыки Баха? Ну, хотя бы к тому, как это делает Альберт Швейцер?
– Хорошо отношусь. Вполне спокойно. Охотно верю, что все попытки трактовать Баха, «подложив» под его инструментальные сочинения какой-нибудь сюжет из Евангелия, могут быть оправданы.
Но… мне эти расшифровки совершенно не нужны. Они мне не помогают. Образные ассоциации у меня, впрочем, сопровождают любую музыку. Но это явление очень личное, индивидуальное, только моё. Я никогда не стремился вызвать у слушатепя, когда я играю, какие-то определённые зрительные представления… Мне кажется, это ни к чему.
Музыка Баха, например, содержит в себе множество чисто музыкальных параллелей-предвосхищений: в ней – и Мендельсон, и Прокофьев, и Дебюсси… А привносить в неё всякую «литературу» совершенно не обязательно.
– И вообще никакая «литература по поводу музыки» не обязательна? Была ли вам когда-нибудь интересна или полезна хотя бы одна книга о музыке, не важно, строго научная или беллетристическая – ну, например, как Томас Манн описывал музыку, которая никогда не существовала?
– А-а, «Доктор Фаустус»… Да, Томас Манн мне очень интересен. Ромен Роллан, пожалуй, в меньшей степени. А если говорить о специальной литературе о музыке, то тут у меня есть просто очень любимая книга. Асафьев, «Симфонические этюды», книга о русской опере… Замечательно!
Мой запас возможностей исчерпан. «Любимого писателя» я благополучно миновала, зато напоролась на любимую книгу!
Очень хорошо помню, как прощалась, как вышла после концерта в кремлёвский сад, в сырую, благоухающую после дождя летнюю ночь, и как в тот момент поняла: Рихтер навсегда избавил меня от страха перед великими. Потому что просто показал мне, что такое – как сказано в знаменитом романе – «аристократическое чувство равенства со всеми живущими».
Лариса Крылова. Подготовила к публикации Ольга Юсова
1979

Жак Лейзер. «В традициях Сола Юрока». «Музыкальная жизнь», 1979, №1 (январь).
В Варшаве я познакомился в 1960 году с Генрихом Нейгаузом. От него я многое узнал о Святославе Рихтере, имя которого тогда еще не пользовалось такой широкой известностью за пределами СССР, как теперь. У меня, правда, были уже его пластинки, но тут возникло неодолимое желание услышать артиста в концертном зале. Как раз вскоре, в мае 1960 года, он должен был играть в Хельсинки. Конечно же, я помчался туда! Рихтер очень тепло отнесся ко мне и согласился сделать записи для нашей фирмы. В том же году он записал в Лондоне одну из Сонат соч.31 Бетховена и Фантазию Шумана, а затем последовали новые работы. Особенно запомнилась мне пластинка «Рихтер в Италии», сделанная несколькими годами позже. Я сопровождал его всю поездку, и мы записывали прямо в залах, при публике.
Помню также, как вместе с Рихтером однажды приехал в Байрейт, чтобы послушать «Тангейзера» с Д.Фишером-Дискау. Я был уже хорошо знаком и с тем и другим, и мне выпала честь представить их друг другу после спектакля. Радостно сознавать, что это положило начало многолетней творческой дружбе двух выдающихся артистов.
Одна из главных моих целей сейчас — устроить так, чтобы Святослав Рихтер после десятилетнего перерыва выступил в США. В Америке уже есть целое поколение любителей музыки, которые не слышали одного из величайших пианистов современности. Если бы я смог помочь этим людям услышать Рихтера, я испытал бы огромное удовлетворение.